Технилище
Октябренок | | Категория: Проза
Своё Спасибо, еще не выражали.
tigry1
ale
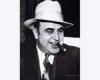
Группа: Дебютанты
Регистрация: 7.12.2011
Публикаций: 0
Комментариев: 123
Отблагодарили:0

Посвящается моим сокурсникам, факультету «М» и кафедре М-6.
Смирнов В.В.
Технилище.
Предисловие
или Мужество, Воля, Труд, Упорство.
Пытаясь определить жанр, в котором писалась эта книга, я, в конце концов, пришел к выводу, что наиболее приемлемым вариантом будет «иронические воспоминания». Правда в отличие от традиционных мемуаров, вы не найдете здесь громадного количества имен, дат, событий, скрупулезного анализа периодов времени, что неизбежно делает этот жанр достаточно скучным и трудным для прочтения. Менее всего хотелось бы изваять некий бронзовый монумент, пусть и по достойному поводу. Кроме того, я не собирался и отчитываться за точность дат, имен и фамилий, номеров документов, потому что за ними пропадает, на мой взгляд, очень важное в книге – многообразная жизнь и «вкус» времени. По странной иронии судьбы, совсем недавно я был свидетелем, как один мой знакомый – бывший комсомольский работник институтско-областного уровня, с задором и рвением занимался выпуском некоего печатного труда с рабочим названием типа «Комсомол Н-ского университета». Процесс создания этой «нетленки» сопровождался довольно ожесточенными спорами по телефону с неизвестными соавторами о том, был ли Сидоров вторым или третьим секретарем в период с 1976 по 1978 год, и ушел ли он в инструкторы горкома партии или в обком. Я, таки представил читателей этого опуса - и скулы свело. Еще одной причиной не писать мемуары в обычном смысле этого слова, было стойкое нежелание называть конкретные фамилии фигурантов этой книги: во-первых, тем, кто знает этот период времени и место событий, вычислить их не представляется сложным, а остальным это и не важно, а во-вторых – возможно мое описание и стиль изложения кому-то из персонажей покажется обидным, или не совсем корректным, а посему, пусть уж они лучше окажутся недоназванными. По прошествии стольких лет все могут спокойно жить, работать, воспитывать детей и внуков, а я лишь надеюсь, что они узнают свои черты в портрете поколения. В принципе, можно было бы назвать книгу по-модному: дневниками или хрониками (сейчас они просто заполонили литературу и даже кино), но составлением дневников я никогда не баловался, а вот воспоминания, причем очень яркие и четкие, так и просят их зафиксировать.
Что же касается ироничности изложения, то это не дань моде, а скорее способ защиты от того негатива, который обрушился на всех нас за последнюю четверть века, от циничности и глупости власти, которая настойчиво борется с собственной технической элитой. Прошло всего 25-30 лет, но мы живем в совсем другой стране, в которой об описываемом периоде времени распространяется слишком много лжи. А ведь для нас – это просто юность, и все плохое уходит на задний план, а вот забавное и ностальгическое – остается. Кроме того, разговаривая с нынешними представителями студенчества, я сделал странный вывод: при всей кажущейся освобожденности и неполитизированности, их жизнь гораздо беднее и «серее», чем описываемая в этой книге. По крайней мере, мои рассказы о студенческой жизни в «тоталитарном» государстве воспринимались нынешним вузовским поколением, как суперинтересные и ныне недостижимые. Кстати, характерным показателем определенной деградации молодежной жизни стало отсутствие новых студенческих песен, да и старые почти забыты.
Время описываемых событий историки нынешнего холуйствующего безвременья обычно называют «периодом застоя». Не собираюсь дискутировать с ними по поводу этой характеристики, тем более что наиболее яростные сегодняшние «свободолюбы» в то время были самыми неистовыми «партолюбами», и попортили мне и моим соратникам немало крови. С точки зрения технической и студенческой этот период в жизни страны – наверное, один из самых успешных: реализовывались сложнейшие проекты, необходимость соревнования с капиталистической экономикой и техникой делала востребованной науку и технологии высшего уровня, что формировало особое внимание к молодым кадрам. Мы были нужны и уважаемы – а именно этого и не хватает студентам нынешним, и это не компенсировать никакими свободами.
Что касается главного героя иронических мемуаров, то им без всякой иронии является Технилище, или Школа, или Бауманка, или «Могила, Вырытая Трудами Ученых» (МВТУ), впрочем, как только не называли лучший технический вуз страны, давший жизнь даже не единицам, а десяткам других вузов, НИИ, академий, а стало быть, и сотням тысяч специалистов. Когда-то на праздновании студенческого Нового года, ведущий вечера предложил состязание на придумывание расшифровки аббревиатуры МВТУ. Конкурс проходил весело, предлагались и «бородатые», взращенные поколениями студентов названия типа вышеупомянутого, были и экспромты. Продолжая традицию, я каждой главе этой книжки дал сопутствующие расшифровки, привязанные к содержанию и времени. Ведь Школа не просто объединила на шесть лет учебы меня и моих соратников, но сформировала наши характеры, создала базис строительства жизни, так что этой книгой я лишь отдаю маленький долг Alma mater. Любой монументальный труд на фоне 180-летней истории Технилища будет ничтожен, поэтому будем считать эту книжку маленьким сонетом или одой ему через призму одного поколения студентов, преподавателей, сотрудников. Насколько книга сможет передать «запах» времени – вопрос риторический, но если уважаемому читателю вдруг захочется найти свои старые записные книжки, и столь знакомые когда-то телефонные номера своих «одноШкольников», а потом и позвонить - я буду считать свои труды не напрасными. Надеюсь, что эти воспоминания будут и лучшими «стволовыми клетками» для заинтересованных читателей, которые вновь смогут почувствовать себя молодыми и фонтанирующими силами, идеями и чувствами. Для полноты ощущений при прочтении рекомендуется включить музыку: Deep Purple, Nazareth, Queen, Uriah Heep, Slade, T. Rex, Paul McCartney, G. Moroder, Smokie… можно долго перечислять властителей наших душ середины и конца 70-х. Да и рок российский начинался на наших глазах, но об этом – в специальной главе.
В книге дано описание объектов Технилища – то есть всего того, что нас в нем окружало и окружает, субъектов – людей, с которыми свела меня судьба и Школа, а также «материи» того времени, или окружающей среды, формировавшей нашу жизнь и судьбу в полном соответствии с философским определением «материя – это объективная реальность, данная нам в ощущениях…».
Итак – вперед по этажам, лестницам, лабораториям, кафедрам и общагам Школы, из которых, как говорили, особенно хорошо виден Космос…
Объекты Школы.
Технилище монументальное
или Могила, Вырытая Трудами Ученых.
Статус ведущей технической школы страны формировался столетиями. Старое здание поучаствовало во всевозможных революциях и исправно вмещало и выпускало специалистов прямо на передовые индустриального прогресса. В 50-е статус Технилища получил монументальное воплощение в виде Главного корпуса, поглотившего и объединившего все старые помещения и мастерские. Вознесшийся над набережной как громадный замок, ГК был оформлен в соответствии со своим временем и сразу стал героем студенческого фольклора. Чего стоит одна скульптурная группа, на фронтоне, символизирующая неразрывную связь рабочих и интеллигенции. Всякий уважающий себя студент на коварный вопрос: «А сколько у нас непьющих?», должен был в любое время ответить: «Шесть», точно по числу этих статуй. Кроме того, видимо для признания больших заслуг выпускников Школы в деле выковывания обороноспособности страны, ближе к набережной стояли старинные пушки на постаментах. Совместно с присоединенными зданиями, лабораториями и мастерскими, Главный корпус образовывал причудливое переплетение коридоров, аудиторий и лестниц, некоторые из которых приводили всего в одно помещение. Вся эта сюрреалистическая композиция вводила студентов, особенно «козерогов», в благоговейный ужас, к тому же и нумерация помещений была довольно забавной: последовательность вдруг прерывалась, а продолжалась уже после спуска на этаж и проход по двум лестницам. Чего стоил женский туалет, на котором стоял номер, как на аудитории, так что не было более веселого занятия на переменах у старшекурсников, чем направлять ошалелых «первогодок» в эту учебную комнату. Монументальные колонны, лестницы, а также бережно сохраняемые аудитории (например, физическая) привлекали внимание кинорежиссеров и время от времени появлялись на экранах исторических фильмов. Особую революционность придавала Технилищу статуя известного большевика, погибшего от рук царских наймитов. Располагалась она в скверике возле старого входа. Бронзовый инженер – революционер казалось, делал шаг к будущей победе серпа и молота во всем мире, поэтому место у скульптуры получило у студентов кодовое название «у ноги». Здесь было несколько скамеек, стоявших друг напротив друга вдоль аллеи, поэтому скверик стал любимым местом «косивших» от занятий студентов и назывался «сачкодромом». Любимым занятием отдыхающих была игра «на деньги» - перебрасывание пятикопеечных монет с целью попасть в начерченный на песке квадрат, жаль только, что наиболее опытные игроки время от времени исчезали по причине отчисления из института. Мы застали время, когда на территории можно было обнаружить любопытные экспонаты, например возле литейных мастерских стоял на спущенных шинах мрачный черный автомобиль марки ЗИС. Он был наглухо закрыт, но снаружи были видно, что стекла имели непропорционально большую толщину, так что ходили легенды, что этот «монстр» принадлежал «лучшему другу пионеров» Лаврентию Палычу. Позднее автомобиль исчез, возможно, кто-то мудрый припрятал его, а теперь он привлекает народ на парадах старинной техники.
Внутри Главного корпуса было много «знаковых» мест. Общепризнанным информационным центром было помещение, где сходились нескольких коридоров, названное «красной площадью» из-за красновато-бурой окраски стен. Здесь всегда висели официальные и неофициальные объявления, здесь назначались встречи и свидания, обсуждали все вопросы, решались на ходу задачки. Тут же можно было позаимствовать, купить или выменять все, что угодно – от учебников до жвачки и дисков.
«Мозговым центром» Школы, несомненно, был читальный зал. Огромного размера, он вовсе не походил на известные нам по кино академично-скучные читальные залы с кучей обитателей, корпеющих над фолиантами. Это был живой и постоянно меняющийся мир: здесь читали и спали, делали задания и трепались, перекусывали и флиртовали. На столах вперемежку лежала одежда, книги, косметички, тетради, учебники, чертежи и тубусы. Забить место в читальном зале было трудно, для этого и использовались все эти вещи, пока их обладатели отходили по делам. Зал гудел как улей, хотя этого гула особо никто и не замечал, зато спалось под него отменно. Вновь прибывающий народ тоже требовал своего места под солнцем науки, так что студенты отстаивали занятую территорию не хуже львов в прайде. Только здесь можно было разжиться дефицитными учебными пособиями и методичками, с помощью которых делалось бесчисленное количество домашних заданий. Сколько будущих «генеральных» и «негенеральных» директоров протирало столы и скамейки, превозмогая «адские» первые два курса. В этом помещении уживались математика и «начерталка», термех и история КПСС, баллистика и английский язык, электротехника и философия. А сколько романов, интриг, комедий и трагедий, клятв и разочарований видели и слышали эти стены. Это вам не узкий индивидуальный мирок, сведенный до экрана компьютера, пусть даже и заваленного всевозможной информацией.
Наконец, нельзя не упомянуть культурное сердце Технилища, коим, несомненно, был большой зал Дома культуры (БЗДК). С этого места начиналась студенческая жизнь, так как именно в нем собирались абитуриенты, успешно сдавшие вступительные экзамены и их родители, для того, чтобы прослушать самую первую информацию для будущих студентов. Здесь же проходили и всевозможные массовые мероприятия – от просмотра фильмов до научных конференций. Директором ДК в наше время был уникальный мужик, который имел кучу связей в киношных и театральных кругах, а также контактировал со «святая святых» советского периода – Госфильмофондом. Именно благодаря его связям мы имели возможность посмотреть шедевры отечественного и зарубежного кино, голливудские боевики и мультфильмы, гонконгские и японские фильмы про каратэ и кун-фу. К нам в гости постоянно приезжали наиболее популярные артисты и барды, а также музыкальные ансамбли. Один из последних своих концертов перед смертью именно в этом зале дал Владимир Высоцкий. А что творилось во время выступления легендарных первых рок-групп «Аракса», «Ариэля» и других. Чего это стоило по тем временам, даже представить себе трудно. За билетами на подобные мероприятия приходилось стоять целый день – тут уж не до лекций. Зато какие «висты» мы приобретали в глазах девушек из менее просвещенных учебных заведений, когда чуть-чуть небрежно могли ввернуть в очаровывающую речь что-нибудь типа: «А вот на последнем концерте Высоцкого ….». Ну а уж если удавалось провести объект ухаживаний по чужому документу на концерт – успех у дамы сердца был тебе обеспечен. Так что спасибо деловому директору очага культуры могла сказать значительная часть целых поколений студентов. Романтический ореол Дому культуры добавляла и ведущая в него лестница, в укромных уголках которой было так удобно курить или обниматься.
Были в Главном корпусе и «нехорошие» места. Центральная лестница стала причиной смерти нескольких человек, которые упали с верхних пролетов и разбились. Один из них был знаменитым олимпийским чемпионом, и эти происшествия до сих пор упоминаются всякими мистиками и фаталистами.
Новые учебные корпуса ряда факультетов уже строились строго функциональными, и не имели особой романтики, хотя и вносили свою лепту в легенды Школы. Так, по рассказам, из корпуса сугубо специального факультета как-то улетел реактивный снаряд, который пробил стену, проходящий трамвай (благо в нем днем было мало народа), и благополучно улетел в сторону строительной площадки нового корпуса. Вряд ли это правда, но вот то, что в сдаваемый факультетом металлолом время от времени к ужасу «особистов» попадали учебные «изделия», бывало. В этом случае начинались разбирательства, которые заканчивались наказанием не в меру инициативных сотрудников. Здания энергетического и машиностроительного факультетов будто бы символизировали собой переход от монументальных форм к бетонно-стеклянным «шестидесятым», а в качестве неразрывности технологического прогресса и преемственности поколений были соединены переходом, который открывался и закрывался по каким-то ему известным законам. Студенты, направлявшиеся в столовую или в аудитории соответственно, играли в занимательную игру – «угадайку» и фильтровались охранниками. Чем ближе к окончанию учебы, тем больше времени мы проводили в своем факультетском корпусе. Здесь тоже было место для общения – столовая с буфетом, жизнь в которых бурлила с утра до вечера. Кормили в этом пищеблоке ужасно, но для преподавателей был выгорожен отдельный зал с обслуживанием, дабы наш разгильдяйский вид не портил им аппетит. Только безысходность и крепость молодых желудков могла подвигнуть на поглощение подозрительных щей и котлет, да и чистота посуды полностью зависела от совести мойщиков. В основном это были отчисленные или ушедшие в «академку» наши же соратники, которые таким образом отбывали трудовую повинность до своего восстановления. Уповать на их совесть было бесполезно, зато можно было поболтать и услышать массу информации. Буфет же был почти элитным заведением, здесь варили кофе, которым, в совокупности с кексом или «ромовой бабой», даже можно было попытаться растопить коварные сердца факультетских красавиц. Стены машиностроительного корпуса были увешаны кафедральной информацией, а также портретами заслуженных ученых и описанием их достижений, здесь же вывешивались подборки из малодоступных тогда зарубежных журналов по оборонной и аэрокосмической тематике. Иногда из-за приоткрытых дверей аудиторий и лабораторий выглядывали «образцы спецтехники», выкрашенные, как и положено, в армейский «болотный» цвет. Все это создавало какую-то ауру сопричастности к таинственному миру научности, секретности и исключительности. Уже позже, когда мы знакомились со всем этим «железом» конкретно, оказывалось, что многие образцы годились скорее для музеев, но свою лепту в формирование имиджа факультета они вносили. Особенно интересно было наблюдать, когда на День ракетных войск и артиллерии или День Космонавтики, коридоры alma mater наполнялись военным и штатским людом, увешанным наградами и лауреатскими значками, тут же сновали сотрудники кафедр, а из-за дверей пахло закуской. Отвлекать преподавателей от мероприятий в это время не рекомендовалось, хотя кое-кто и умудрялся растопить их разгоряченные сердца, получив вожделенную подпись или допуск.
Сегодня Школа обзавелась новым учебным корпусом, который строился лет двадцать с лишним и стал как бы мостиком между советской и постсоветской историей. Затяжка строительства объяснялась сначала отсутствием денег в стране перед Олимпиадой, потом после Олимпиады, потом генсеки начали умирать пачками – не до того. Дальше – больше: с перестройкой совпал период ректорствования в Школе известного космонавта. Он обладал харизматической энергичностью, умением пудрить мозги перестроечному партийному руководству, и высокомерно относился к некосмической науке и технологиям. Под влиянием преклонения перед всем западным, возникла сколь неуместная столь же и дорогостоящая идея создать на базе Технилища некий аналог Массачусетского технологического института. Располагаться он должен был в ближайшем Подмосковье, поэтому строительство нового корпуса остановили. Но потом последний говорливый генсек как-то очень быстро «проболтал» бюджет страны, и грандиозный проект канул в небытие. Ректор, которого за глаза называли «космический засланец», пропал в омуте смутных «девяностых», а вот достроили новый корпус только недавно. Но вот будет ли он мостом между прошлым и будущим Технилища - на это ответ могут дать только его нынешние обитатели.
Технилище экспериментальное
или Мать Вашу, Технологии Учите.
Одной из особенностей учебы в Школе были постоянные практические занятия в мастерских, лабораториях, на стендах. Первокурсники проходили последовательно все традиционные технологии «в натуре». Для этого существовали довольно древние помещения, частично пристроенные, частично отдельно стоящие во дворе Главного корпуса. Они сами по себе добавляли экзотики в процесс обучения, а поиск проходов и входов в них вошел в обязательный минимум мучений «козерогов». Здесь они с разной степенью энтузиазма и умения делали литьевые формы, сваривали уголки, точили детали, ковали и штамповали. Пропускать эти занятия не рекомендовалось, так как их приходилось отрабатывать с другими группами. Оборудование мастерских было довольно допотопным, но зато жизненно-наглядным, с совершенно реальными ковшами с расплавленным металлом, формами для литья, сварочными аппаратами, станками, прессами и многим еще, что ассоциируется в нашем понимании со словом «производство». Даже «приколы» на занятиях были вполне реальными: так один из великовозрастных ребенков нашей группы на спор незаметно от преподавателя подбросил в ковш с расплавленным металлом «пятак», который тут же вызвал фонтанчик брызг и искр. Визг шарахнувшихся девушек, как аналог аплодисментов, он «сорвал», но был изгнан преподавателем, заметившим, тем не менее, наглядность проведенного эксперимента, доказывающего разницу в температурах плавления меди и железа. Оборудование той же литейной мастерской было, мягко говоря, не совсем передовым, хотя о самых перспективных разработках нам тоже рассказывали. Позднее, попав на практику в чугунно-литейный цех тракторного завода, мы поняли, что преподаватели просто морально готовили нас к реалиям массового производства с почти дореволюционными технологиями. По крайней мере, запах пригорелой земляной формовочной смеси преследовал нас потом еще долго. Оглядываясь сейчас на годы обучения, начинаешь подозревать, что еще одной целью наших страданий в мастерских и на заводах во время практики было прививание уважения к рабочему классу, который как никак был в то время официальным «гегемоном». И надо отметить, прививка удалась. По мере нашего выгрызания «гранита науки», практические занятия перемещались на другие лабораторные стенды, которые были уже ближе к науке. Гордостью Школы была аэродинамическая труба, которая время от времени распугивала проходящий по набережной народ. Картинка была еще та: вдруг в тишине распахиваются створки - и ты, будто бы оказываешься бок о бок с небольшим торнадо, по крайней мере, рев раздавался очень похожий.
В шестидесятые годы на волне ракетно-космических достижений Технилище обзавелось огромной экспериментальной базой в Подмосковье. Сюда чуть ли не по прямому распоряжению Королева были перевезены уникальные образцы космической техники, начиная от легендарного «Востока» (в натуральную величину!), и заканчивая модулем, который создавался для высадки на Луну. Со временем отдельные кафедры построили на территории базы свои специализированные стенды, на которых отрабатывались самые перспективные технологии. На базу распределялось большое количество выпускников, которые в дальнейшем ставили здесь уникальные эксперименты и проводили значительную часть научных исследований. Попавших сюда студентов поражала территория, а также гигантских размеров конструкция из опор и труб большого диаметра, опутавшая всю территорию экспериментального центра. Для чего она строилась, не могли припомнить даже специалисты – то ли для отвода газов, то ли для подачи воздуха под давлением. По крайней мере, выглядело все это крайне внушительно и напоминало советские фильмы про работу физиков, или эпические ленты Тарковского «Солярис» и «Сталкер». Все эти факторы наполняли сердца студентов чувством причастности к чему-то очень важному и секретному. На самом деле вдали от московской суеты и всевозможных ограничений, на базе очень комфортно и продуктивно работалось. Аналогичный дух научного творчества мне довелось ощутить позднее, пожалуй, только в Сибирском Академгородке. И там и тут во время подготовки и проведения испытаний не в счет были регалии и звания, а «понедельник на самом деле начинался в субботу», как в знаменитой книге Стругацких. Свободный обмен мнениями, идеи, которые тут же использовались для экспериментов – все это заставляло забыть о времени, так что испытания часто заканчивали за полночь. Контингент сотрудников базы состоял в основном из аспирантов и молодых специалистов, которые образовали некое братство, работали и отдыхали вместе – весело и насыщенно. Тут было время и для водных походов на катерах и байдарках, и для дискотек с использованием самопальных, но очень «продвинутых» стереосистем и светомузыки, привлекавших девушек со всего района. На основании экспериментальных результатов, полученных на стендах, было защищено большое количество диссертаций, научная жизнь бурлила, регулярно проводились конференции и семинары. На базу зачастили отраслевые специалисты, для проживания которых даже существовали две квартирки в построенной рядом с базой девятиэтажке. Квартирки эти пользовались весьма своеобразной славой, так как в них регулярно «обмывались» полученные экспериментальные результаты. Свежий воздух, наличие рядом воды для купания и леса для приготовления шашлыков – все эти сопутствующие факторы делали базу популярной и для студентов, и для специалистов. Наш бывший знаменитый завкафедрой, лауреат всевозможных премий и званий, любил привозить сюда военные делегации. Генералы ходили и оценивали предмет кафедральной гордости – моделирующие стенды, напичканные самой современной регистрирующей аппаратурой, слушали рассказы ученых и проникались греющим душу ощущением близкого выполнения директив партии «догнать и перегнать». Когда же эффект грядущих побед усиливался спиртосодержащими смесями (а для гурманов «цвета хаки» – и вовсе «чистым, как слеза»), заметно упрощалось и решение вопросов согласования финансирования новых научных исследований. Правда, в отличие от наших циничных дней, эти средства не разворовывались, а действительно шли на развитие науки. Экспериментальная база развивалась вплоть до начала перестройки, но наступившее впоследствии безденежье ее доконало. Сначала, в годы руководства Школой известным космонавтом многие работы начали сокращаться, так как новый лидер оперировал лишь технологиями «космического уровня», а к фундаментальным и прикладным исследованиям «земных» процессов относился свысока. Обрадовавшись обещанным миллиардам, он планировал перевести часть лабораторий в маячившую на горизонте Щербинку, но проект умер. Позже в безденежные 90-е, специалисты потихоньку разбрелись для выживания, техника обветшала и устарела. Уникальные исследователи ушли в финансовые организации, политику, торговлю, сервисные компании, даже в «казаки» подмосковного воинства, оставшиеся же пытались просто поддерживать большое хозяйство. Постепенно экспериментальная база превращается в исключительно учебно-демонстрационный центр, но до сих пор поражает новые поколения студентов своим размахом и сюрреалистическими конструкциями. Sic Transit Gloria Mundi…
Общаги
или Место Выживания в Тяжелых Условиях.
По многолетней традиции на первом курсе тех, кому повезло, селили в комплекс общежитий, расположенный в старом дачном поселке Подмосковья. Впрочем «повезло» - весьма спорное определение, так как «проживание» в этой общаге было очень похоже на «выживание». Дело было даже не в расстоянии до Москвы (многие ребята из Подмосковья тратили на дорогу и поболее), просто сами условия жизни здесь создавали повышенные требования к стойкости «козерогов». Во-первых, все приехали из своих семей, и само по себе переходить на самообслуживание было делом непростым, во-вторых, навалившаяся куча заданий, чертежей, занятий требовала все большего времени нахождения в Школе, в-третьих, нормальная столовая в общаге функционировала только до трех – четырех часов дня, что сводило вероятность получения регулярного питания к минимуму.
С другой стороны, в связи с ограниченным количеством мест, попасть даже в такое общежитие было делом весьма непростым. При распределении учитывались следующие параметры: учеба на подготовительном отделении и служба в армии («старослужащие» и здесь были в «авторитете»), семейное и финансовое положение, прочие достоинства (спорт, комсомол и т.д.), и только потом – успешность сдачи экзаменов. Такой подход несколько отличался от официально декларируемого, в чем мне и пришлось убедиться. Будучи медалистом и сдав профильную физику на «отлично», я со всей своей абитуриентской наивностью посчитал, что мои заслуги автоматически трансформируются в ордер на поселение. Однако комиссия была другого мнения, о чем мне и было заявлено. Ситуацию спасло только то, что меня, быстро освободившегося от экзаменов, коварно «припахали» на почти месяц в студенческий строительный отряд, занимавшийся ремонтом Главного корпуса. Видя мой совершенно «убитый» вид, командир отряда потащил меня в студенческий профсоюзный комитет, где расписал во всей красе мои вступительные и трудовые подвиги. Так я попал в «квоту профкома», и снова успокоился, а зря. Произошла какая-то нестыковка, и из списка деканата моя фамилия исчезла, так что «в первый погожий сентябрьский денек», я оказался «нигде». Видимо, страх «бомжевания» добавил мне наглости и упорства, я мотался между комитетами, ректоратом и деканатом и писал громадное количество заявлений, прошений и проч. В конце концов, прожив несколько дней буквально в «углу под лестницей» подмосковного дома, я получил-таки заветный листочек, при этом доведя своего замдекана до «белого каления». Он даже пообещал припомнить мне мою наглость, когда мне придется к нему за чем-нибудь придти в будущем. Угроза была высказана столь доходчиво и ощутимо, что я умудрился впервые обратиться к этому «гражданину начальнику» аж на третьем курсе, когда уже все позабылось. Вот так я и стал обитателем «двухкомнатного» номера, в малой комнате которого расположились «заслуженные ветераны армии и подготовительного отделения», а в проходной – «школьники»: двое из Средней Азии были помимо всего прочего кандидатами в мастера спорта, и только мы с Жорой вроде как «безродные», да еще и из относительно близкой области. Контингент других комнат был примерно таким же, так что «левых» и «блатных» не наблюдалось.
И начались суровые будни. Каждое утро начиналось одинаково: двадцать минут веселенькой ходьбы до станции, сорок минут на электричке и около получаса на троллейбусе или трамвае – и вот ты невыспавшийся и полуголодный сидишь и внимаешь лектору. Хорошо, если удавалось перехватить в станционном буфете засохшую булку, запивая ее сладким до липкости кофе, а то – жди большой перемены, чтобы добраться до буфета (для скорости студенческого перекуса делались еще выносные столы с неразлучной «парочкой»: лимонным напитком и сочником). Проторчав в храме науки до вечера и проголодавшись, ты был обречен на буфет в общежитии со своим незатейливым и стандартным набором: салат или винегрет и толстые сардельки, которые постоянно варились под руководством могучей буфетчицы. Возвышаясь могучими формами над стойкой, она зорко следила за нами, прикидывая, годится ли кто-нибудь в женихи ее созревшей дочери. Так что, если вдруг тебе ласково предлагали небольшую добавку, это значило, что ты признан потенциально «бракоспособным». Особенно был замечаем Леха с ласковым прозвищем «Глыба»: он был после армии (а значит – надежный), ростом под метр девяносто и весом под центнер (а стало быть – должен много кушать), да и силушкой бог не обидел (в хозяйстве пригодится). Так что Леха проходил у буфетчицы по «первому разряду». Конечно, все стали замечать, что порции салата или макарон, которые он получал, значительно превышали средне отвешиваемые при той же цене. Это вызвало кучу шуток и приколов, хотя и без особого усердия, все-таки Леха занимался боксом в тяжелом весе. Он, правда, старательно делал вид, что ничего не замечает, но через какое-то время встал перед нелегким выбором: или быть как все полуголодным, но свободным, или вступать на скользкую дорогу развития отношений с рвущейся к браку отроковицей и ее щедрой мамашей. Не обуреваемый высокими моральными принципами, Леха решил попробовать вариант «и мышку съесть, и…», что сразу же отразилось на размере его порций. Часть слабого духом народа ему завидовала, другая часть с интересом наблюдала за процессом. Время шло, наш потенциальный жених виртуозно в течение месяцев четырех умудрялся избегать более решительных действий, прямо как Кутузов с Наполеоном. Потом все же дело дошло до знакомства с девицей, домашних обедов, после которых Леха приходил с одной стороны сытым и расслабленным, с другой – озабоченным, видно обликом дочура уж очень походила на маменьку. Танцы на новогоднем вечере подтвердили наши опасения: несмотря на юность, формы девушки так и рвались наружу из одежды, и этот порыв должен был иметь какой-то выход. Конец истории был предсказуем: когда все шуточки уже стали стихать, и общество начало готовиться к потере товарища, между потенциальными строителями ячейки общества пробежало кто-то. В результате, какое-то время Леха вообще не рисковал появляться в буфете, а, появившись, удостоился порции такого размера, который явно не мог сохранять жизненную силу его могучего организма. Более того, разочарование несостоявшейся тещи было распространено и на весь наш подлый студенческий люд, что сразу отразилось и на наших желудках. Но молодость легко заживляет раны, а человек-то все-таки был спасен. На ближайшей пирушке Леха «проставился» за счастливое избавление от сладких, но тяжелых пут, хотя до конца нашего обитания в этой общаге гордо терпел и пищевые ограничения, и нелицеприятные комментарии буфетчицы.
Суровые будни дачного проживания имели и свои положительные моменты. На полпути до станции располагался неплохой стадиончик, на котором всегда можно было поиграть в футбол и/или распить горячительные напитки. Изолированность и удаленность от соблазнов большого города, давала возможность иногда сосредотачиваться на учебе, особенно когда дело касалось черчения, а тут имелись и какой – никакой чертежный зал, и библиотека. Так что задания зачастую делались коллективно, а уж если особенно везло, можно было найти аналогичный вариант домашнего задания и договориться о совместном его решении со студентами, рассыпанными по факультетским корпусам. Перед экзаменами по общаге иногда ходили чудесным образом скопированные «билеты», которые изучались страждущим сообществом примерно так, как это изображено в гайдаевских «Приключениях Шурика». Неутомимая студенческая разведка очень скоро обнаружила чуть дальше от Москвы еще один интересный объект – мясокомбинат, который позволял время от времени не только наесться до состояния ограниченной подвижности, но и заработать за перемещение мороженых туш законные три рубля. Но не только эта сумма влекла нас в эту «страну чудес». Опытные соратники серьезно готовились к походу на мясокомбинат: одевалась одежка размера на два-три побольше, штанишки «а-ля Чарли Чаплин», обязательно бралась веревка и нож, а также много хлеба. Хлеб помогал проглотить огромное количество «тройного» бульона и вареного мяса под участливое приговаривание профессиональных грузчиков: «Ты, студент, на бульон, на бульон нажимай, от него самая сила и есть». А вот весь остальной «прикид» позволял вопреки моральному кодексу строителя коммунизма вынести под одеждой при удачном раскладе пару-тройку килограммов мясной продукции. Такой вот «мясной» человек обычно был встречаем дружбанами, которые помогали извлечь размещенные на теле и ногах куски мяса, колбасы и т.д., после чего в комнате общаги происходило пиршество. К самому факту «выноса» в то время относились достаточно лояльно, по крайней мере, штатные грузчики мясокомбината проделывали данные процедуры постоянно и были самыми изощренными консультантами для нас, «непосвященных».
Культурная жизнь в отдельно взятом местечке Подмосковья тоже имела место быть. В общаге по праздникам устраивались дискотеки к радости местного девичества. В связи с тем, что в суровые условия селили лишь мужской контингент, степень концентрации гормонов в отдельно взятой местности просто зашкаливала. Местные юноши и подумать себе не могли конкурировать с истомившимися студентами, так что конфликтов на этой почве даже не происходило. В качестве приманки для женских мотыльков использовался неплохой набор музыкальных инструментов и самородок – виртуоз по фамилии Биденко или просто Бидон. Он обладал внешностью Мулявина из «Песняров», пришел на учебу после армии и подготовительного отделения, а на соло-гитаре выучился играть сам. Иногда, особенно под действием горячительных напитков, Шуру начинала обуревать мания величия и, повесив «мулявинские» усы на микрофон, он выдавал такие «соляки», в стиле Блэкмора, что оставшаяся часть наскоро собранного ансамбля просто не знала, как ему соответствовать, а танцующая братия останавливалась и начинала бурлить и требовать вернуться на грешную ритмованную землю. Обычно в качестве реанимации выступали полстакана портвейна, и минут через пять Биденко вновь возвращался к творчеству Битлз, песни которых он знал в большом количестве. В любом случае для подмосковной глубинки он был почти гением, что, правда, не спасло его от вылета во втором семестре. Ближе к лету культурная жизнь получила развитие в виде посещения танцев в соседнем городке с авиационно-космическим названием. Как правило, туда отправлялся весьма внушительный отряд студентов, что в целом значительно меняло расклады на тамошних дискотеках, а местные дамы весьма благосклонно относились к появлению кавалеров с недосягаемым для местных IQ. Это в свою очередь приводило к определенным конфликтам, которые иногда переходили в драки. Как правило, они протекали по одному и тому же сценарию: вначале аборигены, имевшие локальный численный перевес, теснили удачливых чужаков, но затем срочно отправленные в комплекс общаг гонцы с криком «Наших бьют!» легко поднимали на ноги подавляющую часть проживающих, а далее сплоченный идеей отряд бойцов наглядно демонстрировал преимущества организованной дружины перед толпой, как когда-то римская когорта рассеивала варварские орды. Без лишнего шума, несколько десятков человек проносилось по танцплощадке и улицам городка аккуратно «укладывая» всю мужскую часть населения, которая потенциально могла относиться к обидчикам. После такой акции, в полном соответствии с правилами «зачисток», конфликты на танцах надолго прекращались, и мы могли спокойно купаться в женском внимании. К сожалению, ссылка в этот райский уголок полагалась только первокурсникам, и через год уже новому поколению обитателей приходилось напоминать аборигенам, что люди уезжают, а традиции остаются.
Почти обжившиеся в дачном «раю» и преодолевшие «мясорубку» первого семестра, ближе к лету мы столкнулись с одной дотоле скрытой угрозой. Когда солнце достаточно согрело землю, окрестности общаги заполонили дачники, истосковавшиеся за зиму по ползанию по грядкам. Они столь рьяно принялись поливать свои латифундии, что давление воды в водопроводе резко упало. Естественно, жители вторых этажей общежитий первыми поняли, что система канализации, слепленная умельцами, наверное, еще до войны, категорически отказывалась утилизировать естественные отправления полных молодого задора студенческих желудков. По коридорам поползли соответствующие запахи, а всевозможные ответственные лица только разводили руками. Правда, они еще не знали, с кем связались: неунывающая братия накатала на имя многозвездного генсека коллективное письмо, в котором в преддверие очередного съезда нашей партии выразила сожаление, что неправильные запахи мешают сосредоточиться на всестороннем изучении классиков марксизма – ленинизма, а также борьбе за победу коммунизма во всем мире. Как ни странно, послание сработало, в общагах появились скучные строгие люди, которые для начала пожурили писателей за то, что они отрывают занятых людей от каждодневных забот обо всем советском народе. Тем не менее, запах очень наглядно подтверждал «сигнал с места», так что на него надо было «реагировать». Поняв, что борьба с дерьмом невозможна без строительства новой системы водоснабжения (что само по себе является фантастикой), а победа над оным продуктом никаких регалий и карьерных передвижений не даст, бравые ребята нашли – таки гениальное по простоте решение. Дня через три на территории комплекса появилась бригада мужичков с одинаковыми лицами красновато-сизоватого отлива, вооруженных деревообрабатывающими инструментами. В рекордные сроки были сооружены несколько знаменитых сооружений выгребного типа, которые сделали нашу жизнь уж совсем дачной. Зачеты и экзамены пошли веселее, а мы получили наглядный пример, что безвыходных ситуаций не бывает.
Как и положено, те из нас, кто перешел на второй курс, простились с подмосковной общагой не без некоторой грусти. Человеческая память склонна помнить хорошее (а разве в юности бывает плохое?), поэтому в дальнейшем дачные приключения вспоминались очень милыми. Позднее, проезжая по Казанке, я каждый раз смотрел в окно: вот стадион, вот забор и двухэтажные деревянные корпуса, а потом еще долго всплывали из закоулков памяти знакомые и всегда молодые лица моих друзей. Кстати, помимо закалки характера, я приобрел от пребывания в этом местечке стойкую способность на многие годы практически мгновенно засыпать в электричке, неизменно просыпаясь на нужной станции. Так, что академик Павлов был прав…
На втором курсе нас переместили из дачных мест в исторический центр Москвы, навечно связанный с именем советника Петра Великого. Здание этой общаги было, судя по всему памятником эпохи «конструктивизма», да и не ремонтировалось, похоже, с той же эпохи. Оно стояло в ряду аналогичных и более поздних домов, в которых располагались студенты отпочковавшихся когда–то от Технилища учебных заведений: энергетического, строительного, связи. Место было весьма неплохим: до Школы близко, тихо и зелено, ставшая известной позднее главная политическая тюрьма тогда была не упоминаема всуе, зато были бани, в которые можно было время от времени ходить, даже на студенческую стипендию. Наличие рядом общаг других вузов нас даже радовало, так как процент студенток в них был выше, чем у нас, что давало возможность, в полном соответствии с дедушкой Мичуриным, осуществлять «перекрестное опыление» (так мы называли походы на танцы к нашим соседям). Студенческие городки того времени несли особый дух свободы и безопасности. Здесь можно было 24 часа в сутки встретить загулявших студентов, впрочем, вполне безопасных и без раздумий способных защитить тебя от хулиганов. Это разительно отличается от нынешней поры, когда и студентами становятся непонятно кто, и оно же проживает в студенческих общагах. Так оказавшись недавно в описываемом районе, не мог отказать себе в желании поностальгировать и пройтись по памятным местам, о чем и пожалел. Меж обшарпанных зданий наших общаг сновал кавказско-китайско-вьетнамско-неопределенный люд с баулами и без, грузились и отъезжали какие-то машины, а физиономии нынешних аборигенов совсем не располагали к общению. Проходя знакомыми дворами и арками, я не мог избавиться от ощущения, что чего-то не хватает, а от этого становилось еще тоскливее. Уже позже я понял причину дискомфорта: из окон совершенно не доносилась музыка, а ведь в наше, не избалованное музыкальными центрами время, каждый счастливый обладатель магнитофона или проигрывателя стремился порадовать окружающих любимыми мелодиями, хотя порой это было и слишком навязчиво.
Что касается интернационального окружения, то проживавшие в соседних общагах темно-, желто- и краснокожие представители дружественных нам стран поначалу даже заглядывали в наш буфет, правда при этом встречали удивленно-отстраненную реакцию, а посему постепенно исчезли. Объяснялось все просто: мы учились в «закрытом» вузе, что само по себе не располагало к общению, к тому же «залетные» позволяли себе тогда поощряемые вольности, а в нашей суровой среде они не проходили. Эти «моментики» обострялись летом во время сдачи сессий: кто-то учил, кто-то отдыхал, кто-то обмывал сдачу, из открытых окон неслись звуки жизни, а так как расстояния между корпусами были небольшими, создавалось впечатление большой коммунальной квартиры. Наши демократические и развивающиеся друзья особенно любили устраивать шумные гуляния под аккомпанемент женских визгов и диско, так что в ответ с нашей стороны порой раздавался крик души какого-нибудь страдальца, сдающего завтра сопромат, о том, что он думает о веселых иностранцах, их родственниках до седьмого колена, и даже о солидарности с народами Африки, Азии и Америки. Слово за слово, и вот уже к дискуссии подключались все новые участники, а иногда в «гуляющие» окна мог залететь и булыжник. Слово «толерантность» тогда мало кто знал…
Издержки архитектуры 20-х, 30-х годов на новом месте обитания мы поняли достаточно быстро: в сплошные вдоль всего фасада линии окон безбожно задувал ветер, а все места общего пользования были ну уж совсем «коммунными», то есть общими для всех и единичными на несколько этажей. Все это в совокупности с отсутствием ремонта со времен «волюнтаризма» явилось для нас новым, хотя и привычным уже испытанием. Порядки в общежитии были достаточно лояльными: на входе сидела бабуся – типичный божий одуванчик, так что пройти и, что более важное, провести можно было без проблем кого угодно. Оперативный отряд поначалу затеял некие обходы по проверке быта и санитарии, но был «не понят» старожилами, прошедшими через подмосковные испытания, а посему сам собой свернул фискальную деятельность. Здание местного магазина примыкало к нашему, так что некоторые студенты устраивались в него на работу грузчиками, а в комнату тянули провод со звонком, по которому их и вызывали, когда приезжали машины с товаром. В магазине царили могучие продавщицы, которые относились к нам вполне по-дружески и даже без просьбы нарезали покупаемые колбасу и сыр для вечернего «полдника». Коридорная система способствовала интенсивному общению, в коридорах болтали, пели, играли на гитаре, флиртовали, готовились к экзаменам. Сюда же выносились столы во время важных празднований, когда места в комнатах не хватало. Был момент, когда своеобразным украшением столов были трехлитровые банки с водкой, и это не было казусом торговли. Просто в числе знакомых представительниц прекрасного пола наших «послеармейских стариков» оказались скромные труженицы ликероводочного завода. Выносимые в грелках на их вечно тоскующих телах горячительные напитки сливались в банки и потреблялись нашим сообществом на различных мероприятиях, повышая заодно и градус любви. Однако такие емкости имели и опасную оборотную сторону: с ними было трудно определять выпиваемую норму, так что время от времени, чьи-то совсем расслабившиеся тела распределялись по комнатам. Время от времени из разных уголков страны в общагу приезжали члены семей ее обитателей. На время этих своеобразных «побывок» комнаты приводились в весьма условный порядок, заслуженные работницы – «штуцерщицы» получали временный отпуск, из «гостевых» комнат разбредался народ с матрацами в поисках свободной койки, а по коридорам носились перемазанные в шоколаде неизвестные дети, а дамы в халатах и бигудях разыскивали их по всем закоулкам.
Спустя год после нашего вселения, руководство Школы вполне логично приняло решение наплевать на историческую ценность памятника эпохи, и общагу отремонтировали. Произошло еще одно локальное переселение, теперь уже до самого окончания института, и наше дальнейшее существование стало гораздо менее похожим на выживание.
Вообще-то основной студенческий городок Технилища располагался в парковой зоне, где целый квартал составляли корпуса разных факультетов. Место было приятное, располагающее к романтическим прогулкам и занятиям спортом. Мы какое-то время прожили здесь, но потом бывали редко, так что проникнуться духом этого городка не успели. Думаю, лучше об этих общагах расскажут их обитатели…
Субъекты Школы
Школа – это, прежде всего люди, которые окружали меня и моих сокурсников. Они были разными: друзья, приятели, знакомые и незнакомые студенты, аспиранты, преподаватели, сотрудники, все те, кто собственно во все времена и составлял главное богатство славного вуза. Не претендуя на абсолютную точность описания и, не желая в какой-то мере затрагивать личную жизнь описываемых, попробую нарисовать некоторые типовые портреты окружавших меня людей, возможно собирательные, но оставшиеся в памяти очень яркими.
Серёги
или Моих Воспоминаний Тихий Уголок.
Трудно быть отстраненно-объективным при описании людей, с которыми прожил вместе не один год. В связи с тем, что на втором курсе ряды студентов существенно поредели, количество мест в общежитии увеличилось, соответственно, в дружные ряды прошедших подмосковное «чистилище» влились новые фигуранты, рассеянные до того по съемным площадям у «бабулек» и знакомым. Коллективы комнат создавались полустихийно: кто-то кого-то знал по учебе на одном потоке, кто-то – по стройотряду или спортивным занятиям. Вернувшись из заслуженного в стройотряде отпуска, в институте я попал уже к завершающей стадии формирования заселенцев, так что обрадовался, увидев такого же озабоченного Серёгу, с которым мы вместе клали кирпичи и таскали бетон в подмосковном местечке с ласкающим ухо названием Струпна. Оказалось, что Сергей был не один, а вместе с тезкой из их группы, так что я сразу понял, что загадывание желаний в ближайшей перспективе мне обеспечено. В связи с тем, что и внешние габариты, и массовые характеристики Серёг разительно отличались, буду для простоты называть их Большой и Малый. Так, в общем-то, случайная встреча объединяет людей, а потом уже и не мыслишь, что все могло быть по-другому.
Серега Большой был из плеяды детей «специалистов – подвижников», созданных советской властью и брошенных ею же в эпоху «большого развала». Его отец был одним из руководителей горнодобывающего комбината в Средней Азии, выдававшего «на-гора» ту самую руду, из которой ковался атомный щит нашей в целом миролюбивой страны. Вообще, структуры бывшего Минсредмаша с легкой руки незабвенного Лаврентия Павловича представляли собой совершенно уникальное явление: разбросанные по всему Союзу, они были своеобразным «государством в государстве», даже законодательство на их территории было российским. Специалистов в эти закрытые городки привлекали не только высокие зарплаты и быстрое получение жилья, но и определенный стиль жизни. Я думаю, что если бы можно было в то время провести модное нынче определение IQ у жителей в этих поселках, он был бы просто на зашкаливающем уровне. Находиться в такой среде было интересно, как в большой и умной семье (желающие могут получить представление об этом, посмотрев потрясающий фильм «Девять дней одного года»). При этом неважно, чьи дети занимались в школах – главного инженера или экскаваторщика – уровень образования был в поселках достаточно высоким. Жители закрытых административных территориальных образований (ЗАТО) – кажется так они именовались официально – на территориях бывших советских республик, заметно контрастировали с местными жителями, одновременно ломали почти средневековый уклад их существования и, по сути, несли цивилизацию в богом забытые земли. Тем неприятнее предательство со стороны когда-то великой страны и России, как ее правопреемника, которые при распаде СССР просто бросили свои лучшие кадры на произвол судьбы в среде вдруг осознавших свою национальную гордость аборигенов. По закону Ломоносова рост этой гордости привел к падению умственных способностей, поселки и производство при них пришли в запустение, а национальный контингент теперь гордится получением должности разнорабочих в российских городах. Но все это было потом, а в описываемое время Сергей Большой вносил в нашу маленькую семью теплое дыхание Средней Азии. По крайней мере, уже с февраля месяца мы начинали время от времени получать «витаминные посылки» с одуревающе-душистыми плодами Юга в виде редиски, лука, укропчика и других даров природы. В промозглой Москве это было сродни мандаринам на Новый год, а уж для наших авитаминозных учебных будней – просто солнечная отрада. Майские праздники, на которые простой студент Серега имел возможность слетать домой (мы ему особо завидовали, так как он делал это на сверхзвуковом ТУ-144), для нас означали последующее вкушение каких-то запредельных лакомств из абрикосов, клубники и проч. Именно вкушение, так как в условиях общежитейского братства наесться дарами не получалось: на ароматы будто невзначай заглядывали, казалось, все проходящие мимо обитатели. Но Большой достойно нес свой крест спасителя наших организмов, будучи от природы человеком спокойным и рассудительным. Было у Сереги еще одно качество, которое выделяло его из наших разношерстных рядов, - у него была большая школьная любовь, которая уехала учиться в революционную столицу нашей страны, обзывавшуюся тогда Ленинградом. Конечно же, все мы ему по-доброму завидовали, хотя и приходилось ему разрываться между столицами и далеким домом. Для нас такая любовь была как некий чистый родник отношений, даже эталон, так что мы по мере сил старались, чтобы никакие тучи не омрачали их взаимное стремление. Вообще только сейчас с высоты лет понимаешь, сколько работы души требовалось, чтобы сохранять такую любовь среди постоянно искушающего мира, да еще и во времена разудалой студенческой действительности. Мы же старались быть рыцарями – хранителями до конца, мужественно преодолевали неудобства во время их встреч в Москве, да и в периоды неизбежных размолвок помогали, как могли. Зато все и окончилось, как в красивых фильмах – настоящей студенческой свадьбой, а потом и последовательностью свадеб из разных материалов, вплоть до драгоценных. После распределения Сергей перебрался на свою малую инженерную родину в солнечную республику, сделал хорошую карьеру, родил сынов, а потом…. Потом были внутриазиатские разборки, похожие на войну, скоропостижный отъезд в «Россию девяностых», которая была как бы все время «с похмелья» и никому ничего не должна. Тем не менее, школьная любовь, окрепшая под эгидой Школы, все преодолела, так что остается только поклониться ее результативной стойкости.
В противоположность медлительно-рассудительному Большому, Серёга Малый был по-школьному изящен и порывист. Будучи выпускником специализированной физико-математической школы, он в группе был сразу отнесен к «вундеркиндам», с соответствующим отношением и «прикалыванием». У послеармейских «стариков» подростковость Малого вызывала чувства почти отеческие, у остальных – «старшебратские». По причине малой телесной массы, ему трудновато приходилось на наших студенческих «сейшенах», не отличавшихся трезвостью. Впрочем, у этого качества была обратная сторона: в то время как мы потребляли все большее количество спиртосодержащих напитков, приближаясь (а иногда – и превышая) допустимый литраж, Серый успевал за вечер «вырубиться», вздремнуть, отсидеться где-нибудь в ванной, и вернуться к почти трезвому состоянию. Последующее сопровождение наших расслабленных тел в общежитие было для него малоприятной процедурой, во время которой мы получали свою долю шипения по поводу нашего поведения и склонности к спонтанному и непрерывному смеху Серёги Большого. Хмурый утренний «бодун» всех нас подравнивал, и вчерашнее казалось не более чем еще одним приключением, а вот пиво – актуальным вожделением. Аналогичные трудности возникали у Малого и в части отношений с противоположным полом: стремление уберечь нашего «инфанта» от его вредоносного влияния на неокрепшую душу и организм, обычно приводило к тому, что девушек расхватывали более циничные и стойкие. Это глубоко возмущало Серегу, но сути не меняло. Так или иначе, наш вундеркинд, настрадавшись к третьему курсу положением младшего брата, вдруг взял … и женился. Как часто бывает в такой ситуации, в этом альянсе было трудно установить, кто из них кого нашел, но крепкая телом девушка овладела нашим соратником полностью и бесповоротно. Любовь со стороны Сергея протекала бурно – с признаниями обо всех предыдущих влюбленностях, включая артистку Веру Глаголеву, с прогулками по зимнему парку и валянием в снегу, детскими обидами на наше подтрунивание и отлыниванием от несения простых функций сожительства, связанных с уборкой комнаты и приобретением по очереди продуктов. Когда же у них «дошло до этого» и наш «взятый на грудь» Серёга явился просто светящимся изнутри и даже снисходительно позволил себе не обращать внимания на наши приколы, мы поняли: соратника не вернуть, а традиции Школы насчет ее студенток верны. Будущая теща закатила в небольшом городке веселую студенческую свадьбу, на которой вся группа гуляла так отчаянно, как это могут делать только студенты. Молодые поселились в освободившейся комнате в другом общежитии, так что наш друг «оторвался от взрастивших его корней». В дальнейшем, молодая супруга весьма эффективно ограничивала общение Малого с нашим не совсем высокоморальным окружением, и даже во время вполне безобидных совместных отмечаний праздников вроде бы незаметно отдавливала ему ногу, предостерегая от различных излишеств. Возможно, это было и правильно, так как впоследствии их ячейка общества прошла сквозь годы вполне успешно. Жизнь забросила Малого на цветущую и «салообразующую» Украину, где он совсем не затерялся, стал руководителем и заядлым рыбаком, хотя в наше время мы за ним такого хобби не замечали.
Были у Серег и другие общие черты, помимо имени, студенческих свадеб и последующего рождения двух сыновей. Оба просто сливались в экстазе на почве любви поспать. Занятия в Школе начинались довольно рано, поэтому каждый вечер наблюдалась одна и та же картина. Оба моих сожителя начинали просить разбудить их к первой паре, так как лекция (семинар) будет очень важным. Наученный горьким опытом, я дипломатично выражал сомнение в искренности этих заявлений, однако давал слабину и обещал разбудить столь тянущихся к наукам соратников. Утром же из раза в раз картина тоже повторялась: сначала на предложение подняться следовала тишина, затем невнятное бормотание спросонья о том, что я – садист, время слишком раннее, да и лекция в принципе ненужная и т.д. и т.п. Разозленный и исчерпавший даже недипломатичные методы убеждения, я давал зарок больше не заниматься таким бесперспективным занятием, но наступал вечер, и опять начинались старые песни про важность завтрашних утренних занятий. Но, пожалуй, лишь в этом вопросе наши часы работали вразнобой – все остальные вопросы решались совместно и вполне оперативно, так что с соседями мне повезло.
«Фигура»
или Математика Верховодит, Талант Уходит.
Все знали его больше не по имени – Юрка, а по прозвищу – «Фигура». И был он продуктом своего времени и тогдашней студенческой жизни, а также личностью, о которой потом годами передавались из уст в уста легенды. Такие люди были почти во всех вузах, и без них трудно передать дух того времени.
Когда мы пришли в Технилище, он уже учился несколько лет, за время, проведенное мной в вузе, сумел перейти с третьего на четвертый курс, отчисляясь через год, но неизменно восстанавливаясь, причем по слухам не без помощи ректората, и без всякого намека на «мохнатую руку» где-то наверху а, тем более, без взяток. Просто Юра был безумно талантлив, но столь же безумно и беспечно ленив и неорганизован. Бессменный «прима» институтской агитбригады, он легко доводил до колик зрителей, рассказывая что-нибудь из Зощенко, или скетчи из студенческой жизни, либо разыгрывая сцены из «Мадемуазель Нитуш». Кроме того, он пел, играл на нескольких инструментах, неплохо рисовал – словом был незаменимым атрибутом всей внеучебной жизни. К большому сожалению, описываемый период совпал с исчезновением такого явления как Клуб Веселых и Находчивых с телеэкранов и сцен, иначе Юрка, наверное, обязательно бы засветился среди его фигурантов. По крайней мере, на фоне нынешних «самородков» и резидентов «Комеди клаб» Фигура смотрелся бы абсолютно органично и современно. Помимо всего прочего он еще был и ангелом – спасителем для «козерогов», помогая им с черчением, математикой, термехом и т.д., при этом выполнение своих заданий во время очередного периода учебы оставлял «на потом». Где-то в Белоруссии на него давно охотились и военкомат и милиция, но он умудрялся раствориться в Москве. Жил он в общагах, естественно, на «птичьих правах», но это его нимало не смущало. Часто можно было видеть Юрку с матрацем и подушкой в руках, шествующего по коридору и заходящего в комнаты в поисках свободной койки. Отказать ему было невозможно, но при возвращении законного владельца, место освобождалось, и вновь маячила в коридоре его высокая фигура со спальными принадлежностями. Деньги у студентов Юрец старался не занимать, но сигареты «стрелял» постоянно, хотя и сам раздавал их с легкой душой, когда у него вдруг появлялись средства. Как-то по общаге пронесся слух, что группа замдеканов приедет, чтобы посмотреть на быт их подопечных. Фигура исчез куда-то и появился с красками и листами ватмана. Часа за три были нарисованы несколько картин в трудноопределяемом стиле, зато с броскими названиями: «Ужас», «Экстаз», «Похмелье» и т.д. и т.п. Картины были развешаны по комнатам и произвели неизгладимое впечатление на «замдеков», особенно «Похмелье», написанное не только с душой, но и с истинным знанием вопроса. Проявленный интерес наткнулся на встречное предложение продать шедевры по сходной цене, а так как члены делегации не могли «потерять лицо» перед внимательно наблюдающими за ними студентами, то все произведения «ушли» рублей за 20. Высокая комиссия, осчастливленная «шедеврами», сконфуженно исчезла, а Юрка «накрыл поляну» и провозгласил тост за истинных ценителей искусства и регулярные приезды проверяющих (по странному стечению обстоятельств, замдеканов после этого очень долго в общаге не видели). На следующий же день он опять ходил по коридору и «стрелял» сигареты. Однажды Фигура уехал куда-то и исчез, наверное, операция по захвату его военкоматом прошла успешно…
Смирнов В.В.
Технилище.
Предисловие
или Мужество, Воля, Труд, Упорство.
Пытаясь определить жанр, в котором писалась эта книга, я, в конце концов, пришел к выводу, что наиболее приемлемым вариантом будет «иронические воспоминания». Правда в отличие от традиционных мемуаров, вы не найдете здесь громадного количества имен, дат, событий, скрупулезного анализа периодов времени, что неизбежно делает этот жанр достаточно скучным и трудным для прочтения. Менее всего хотелось бы изваять некий бронзовый монумент, пусть и по достойному поводу. Кроме того, я не собирался и отчитываться за точность дат, имен и фамилий, номеров документов, потому что за ними пропадает, на мой взгляд, очень важное в книге – многообразная жизнь и «вкус» времени. По странной иронии судьбы, совсем недавно я был свидетелем, как один мой знакомый – бывший комсомольский работник институтско-областного уровня, с задором и рвением занимался выпуском некоего печатного труда с рабочим названием типа «Комсомол Н-ского университета». Процесс создания этой «нетленки» сопровождался довольно ожесточенными спорами по телефону с неизвестными соавторами о том, был ли Сидоров вторым или третьим секретарем в период с 1976 по 1978 год, и ушел ли он в инструкторы горкома партии или в обком. Я, таки представил читателей этого опуса - и скулы свело. Еще одной причиной не писать мемуары в обычном смысле этого слова, было стойкое нежелание называть конкретные фамилии фигурантов этой книги: во-первых, тем, кто знает этот период времени и место событий, вычислить их не представляется сложным, а остальным это и не важно, а во-вторых – возможно мое описание и стиль изложения кому-то из персонажей покажется обидным, или не совсем корректным, а посему, пусть уж они лучше окажутся недоназванными. По прошествии стольких лет все могут спокойно жить, работать, воспитывать детей и внуков, а я лишь надеюсь, что они узнают свои черты в портрете поколения. В принципе, можно было бы назвать книгу по-модному: дневниками или хрониками (сейчас они просто заполонили литературу и даже кино), но составлением дневников я никогда не баловался, а вот воспоминания, причем очень яркие и четкие, так и просят их зафиксировать.
Что же касается ироничности изложения, то это не дань моде, а скорее способ защиты от того негатива, который обрушился на всех нас за последнюю четверть века, от циничности и глупости власти, которая настойчиво борется с собственной технической элитой. Прошло всего 25-30 лет, но мы живем в совсем другой стране, в которой об описываемом периоде времени распространяется слишком много лжи. А ведь для нас – это просто юность, и все плохое уходит на задний план, а вот забавное и ностальгическое – остается. Кроме того, разговаривая с нынешними представителями студенчества, я сделал странный вывод: при всей кажущейся освобожденности и неполитизированности, их жизнь гораздо беднее и «серее», чем описываемая в этой книге. По крайней мере, мои рассказы о студенческой жизни в «тоталитарном» государстве воспринимались нынешним вузовским поколением, как суперинтересные и ныне недостижимые. Кстати, характерным показателем определенной деградации молодежной жизни стало отсутствие новых студенческих песен, да и старые почти забыты.
Время описываемых событий историки нынешнего холуйствующего безвременья обычно называют «периодом застоя». Не собираюсь дискутировать с ними по поводу этой характеристики, тем более что наиболее яростные сегодняшние «свободолюбы» в то время были самыми неистовыми «партолюбами», и попортили мне и моим соратникам немало крови. С точки зрения технической и студенческой этот период в жизни страны – наверное, один из самых успешных: реализовывались сложнейшие проекты, необходимость соревнования с капиталистической экономикой и техникой делала востребованной науку и технологии высшего уровня, что формировало особое внимание к молодым кадрам. Мы были нужны и уважаемы – а именно этого и не хватает студентам нынешним, и это не компенсировать никакими свободами.
Что касается главного героя иронических мемуаров, то им без всякой иронии является Технилище, или Школа, или Бауманка, или «Могила, Вырытая Трудами Ученых» (МВТУ), впрочем, как только не называли лучший технический вуз страны, давший жизнь даже не единицам, а десяткам других вузов, НИИ, академий, а стало быть, и сотням тысяч специалистов. Когда-то на праздновании студенческого Нового года, ведущий вечера предложил состязание на придумывание расшифровки аббревиатуры МВТУ. Конкурс проходил весело, предлагались и «бородатые», взращенные поколениями студентов названия типа вышеупомянутого, были и экспромты. Продолжая традицию, я каждой главе этой книжки дал сопутствующие расшифровки, привязанные к содержанию и времени. Ведь Школа не просто объединила на шесть лет учебы меня и моих соратников, но сформировала наши характеры, создала базис строительства жизни, так что этой книгой я лишь отдаю маленький долг Alma mater. Любой монументальный труд на фоне 180-летней истории Технилища будет ничтожен, поэтому будем считать эту книжку маленьким сонетом или одой ему через призму одного поколения студентов, преподавателей, сотрудников. Насколько книга сможет передать «запах» времени – вопрос риторический, но если уважаемому читателю вдруг захочется найти свои старые записные книжки, и столь знакомые когда-то телефонные номера своих «одноШкольников», а потом и позвонить - я буду считать свои труды не напрасными. Надеюсь, что эти воспоминания будут и лучшими «стволовыми клетками» для заинтересованных читателей, которые вновь смогут почувствовать себя молодыми и фонтанирующими силами, идеями и чувствами. Для полноты ощущений при прочтении рекомендуется включить музыку: Deep Purple, Nazareth, Queen, Uriah Heep, Slade, T. Rex, Paul McCartney, G. Moroder, Smokie… можно долго перечислять властителей наших душ середины и конца 70-х. Да и рок российский начинался на наших глазах, но об этом – в специальной главе.
В книге дано описание объектов Технилища – то есть всего того, что нас в нем окружало и окружает, субъектов – людей, с которыми свела меня судьба и Школа, а также «материи» того времени, или окружающей среды, формировавшей нашу жизнь и судьбу в полном соответствии с философским определением «материя – это объективная реальность, данная нам в ощущениях…».
Итак – вперед по этажам, лестницам, лабораториям, кафедрам и общагам Школы, из которых, как говорили, особенно хорошо виден Космос…
Объекты Школы.
Технилище монументальное
или Могила, Вырытая Трудами Ученых.
Статус ведущей технической школы страны формировался столетиями. Старое здание поучаствовало во всевозможных революциях и исправно вмещало и выпускало специалистов прямо на передовые индустриального прогресса. В 50-е статус Технилища получил монументальное воплощение в виде Главного корпуса, поглотившего и объединившего все старые помещения и мастерские. Вознесшийся над набережной как громадный замок, ГК был оформлен в соответствии со своим временем и сразу стал героем студенческого фольклора. Чего стоит одна скульптурная группа, на фронтоне, символизирующая неразрывную связь рабочих и интеллигенции. Всякий уважающий себя студент на коварный вопрос: «А сколько у нас непьющих?», должен был в любое время ответить: «Шесть», точно по числу этих статуй. Кроме того, видимо для признания больших заслуг выпускников Школы в деле выковывания обороноспособности страны, ближе к набережной стояли старинные пушки на постаментах. Совместно с присоединенными зданиями, лабораториями и мастерскими, Главный корпус образовывал причудливое переплетение коридоров, аудиторий и лестниц, некоторые из которых приводили всего в одно помещение. Вся эта сюрреалистическая композиция вводила студентов, особенно «козерогов», в благоговейный ужас, к тому же и нумерация помещений была довольно забавной: последовательность вдруг прерывалась, а продолжалась уже после спуска на этаж и проход по двум лестницам. Чего стоил женский туалет, на котором стоял номер, как на аудитории, так что не было более веселого занятия на переменах у старшекурсников, чем направлять ошалелых «первогодок» в эту учебную комнату. Монументальные колонны, лестницы, а также бережно сохраняемые аудитории (например, физическая) привлекали внимание кинорежиссеров и время от времени появлялись на экранах исторических фильмов. Особую революционность придавала Технилищу статуя известного большевика, погибшего от рук царских наймитов. Располагалась она в скверике возле старого входа. Бронзовый инженер – революционер казалось, делал шаг к будущей победе серпа и молота во всем мире, поэтому место у скульптуры получило у студентов кодовое название «у ноги». Здесь было несколько скамеек, стоявших друг напротив друга вдоль аллеи, поэтому скверик стал любимым местом «косивших» от занятий студентов и назывался «сачкодромом». Любимым занятием отдыхающих была игра «на деньги» - перебрасывание пятикопеечных монет с целью попасть в начерченный на песке квадрат, жаль только, что наиболее опытные игроки время от времени исчезали по причине отчисления из института. Мы застали время, когда на территории можно было обнаружить любопытные экспонаты, например возле литейных мастерских стоял на спущенных шинах мрачный черный автомобиль марки ЗИС. Он был наглухо закрыт, но снаружи были видно, что стекла имели непропорционально большую толщину, так что ходили легенды, что этот «монстр» принадлежал «лучшему другу пионеров» Лаврентию Палычу. Позднее автомобиль исчез, возможно, кто-то мудрый припрятал его, а теперь он привлекает народ на парадах старинной техники.
Внутри Главного корпуса было много «знаковых» мест. Общепризнанным информационным центром было помещение, где сходились нескольких коридоров, названное «красной площадью» из-за красновато-бурой окраски стен. Здесь всегда висели официальные и неофициальные объявления, здесь назначались встречи и свидания, обсуждали все вопросы, решались на ходу задачки. Тут же можно было позаимствовать, купить или выменять все, что угодно – от учебников до жвачки и дисков.
«Мозговым центром» Школы, несомненно, был читальный зал. Огромного размера, он вовсе не походил на известные нам по кино академично-скучные читальные залы с кучей обитателей, корпеющих над фолиантами. Это был живой и постоянно меняющийся мир: здесь читали и спали, делали задания и трепались, перекусывали и флиртовали. На столах вперемежку лежала одежда, книги, косметички, тетради, учебники, чертежи и тубусы. Забить место в читальном зале было трудно, для этого и использовались все эти вещи, пока их обладатели отходили по делам. Зал гудел как улей, хотя этого гула особо никто и не замечал, зато спалось под него отменно. Вновь прибывающий народ тоже требовал своего места под солнцем науки, так что студенты отстаивали занятую территорию не хуже львов в прайде. Только здесь можно было разжиться дефицитными учебными пособиями и методичками, с помощью которых делалось бесчисленное количество домашних заданий. Сколько будущих «генеральных» и «негенеральных» директоров протирало столы и скамейки, превозмогая «адские» первые два курса. В этом помещении уживались математика и «начерталка», термех и история КПСС, баллистика и английский язык, электротехника и философия. А сколько романов, интриг, комедий и трагедий, клятв и разочарований видели и слышали эти стены. Это вам не узкий индивидуальный мирок, сведенный до экрана компьютера, пусть даже и заваленного всевозможной информацией.
Наконец, нельзя не упомянуть культурное сердце Технилища, коим, несомненно, был большой зал Дома культуры (БЗДК). С этого места начиналась студенческая жизнь, так как именно в нем собирались абитуриенты, успешно сдавшие вступительные экзамены и их родители, для того, чтобы прослушать самую первую информацию для будущих студентов. Здесь же проходили и всевозможные массовые мероприятия – от просмотра фильмов до научных конференций. Директором ДК в наше время был уникальный мужик, который имел кучу связей в киношных и театральных кругах, а также контактировал со «святая святых» советского периода – Госфильмофондом. Именно благодаря его связям мы имели возможность посмотреть шедевры отечественного и зарубежного кино, голливудские боевики и мультфильмы, гонконгские и японские фильмы про каратэ и кун-фу. К нам в гости постоянно приезжали наиболее популярные артисты и барды, а также музыкальные ансамбли. Один из последних своих концертов перед смертью именно в этом зале дал Владимир Высоцкий. А что творилось во время выступления легендарных первых рок-групп «Аракса», «Ариэля» и других. Чего это стоило по тем временам, даже представить себе трудно. За билетами на подобные мероприятия приходилось стоять целый день – тут уж не до лекций. Зато какие «висты» мы приобретали в глазах девушек из менее просвещенных учебных заведений, когда чуть-чуть небрежно могли ввернуть в очаровывающую речь что-нибудь типа: «А вот на последнем концерте Высоцкого ….». Ну а уж если удавалось провести объект ухаживаний по чужому документу на концерт – успех у дамы сердца был тебе обеспечен. Так что спасибо деловому директору очага культуры могла сказать значительная часть целых поколений студентов. Романтический ореол Дому культуры добавляла и ведущая в него лестница, в укромных уголках которой было так удобно курить или обниматься.
Были в Главном корпусе и «нехорошие» места. Центральная лестница стала причиной смерти нескольких человек, которые упали с верхних пролетов и разбились. Один из них был знаменитым олимпийским чемпионом, и эти происшествия до сих пор упоминаются всякими мистиками и фаталистами.
Новые учебные корпуса ряда факультетов уже строились строго функциональными, и не имели особой романтики, хотя и вносили свою лепту в легенды Школы. Так, по рассказам, из корпуса сугубо специального факультета как-то улетел реактивный снаряд, который пробил стену, проходящий трамвай (благо в нем днем было мало народа), и благополучно улетел в сторону строительной площадки нового корпуса. Вряд ли это правда, но вот то, что в сдаваемый факультетом металлолом время от времени к ужасу «особистов» попадали учебные «изделия», бывало. В этом случае начинались разбирательства, которые заканчивались наказанием не в меру инициативных сотрудников. Здания энергетического и машиностроительного факультетов будто бы символизировали собой переход от монументальных форм к бетонно-стеклянным «шестидесятым», а в качестве неразрывности технологического прогресса и преемственности поколений были соединены переходом, который открывался и закрывался по каким-то ему известным законам. Студенты, направлявшиеся в столовую или в аудитории соответственно, играли в занимательную игру – «угадайку» и фильтровались охранниками. Чем ближе к окончанию учебы, тем больше времени мы проводили в своем факультетском корпусе. Здесь тоже было место для общения – столовая с буфетом, жизнь в которых бурлила с утра до вечера. Кормили в этом пищеблоке ужасно, но для преподавателей был выгорожен отдельный зал с обслуживанием, дабы наш разгильдяйский вид не портил им аппетит. Только безысходность и крепость молодых желудков могла подвигнуть на поглощение подозрительных щей и котлет, да и чистота посуды полностью зависела от совести мойщиков. В основном это были отчисленные или ушедшие в «академку» наши же соратники, которые таким образом отбывали трудовую повинность до своего восстановления. Уповать на их совесть было бесполезно, зато можно было поболтать и услышать массу информации. Буфет же был почти элитным заведением, здесь варили кофе, которым, в совокупности с кексом или «ромовой бабой», даже можно было попытаться растопить коварные сердца факультетских красавиц. Стены машиностроительного корпуса были увешаны кафедральной информацией, а также портретами заслуженных ученых и описанием их достижений, здесь же вывешивались подборки из малодоступных тогда зарубежных журналов по оборонной и аэрокосмической тематике. Иногда из-за приоткрытых дверей аудиторий и лабораторий выглядывали «образцы спецтехники», выкрашенные, как и положено, в армейский «болотный» цвет. Все это создавало какую-то ауру сопричастности к таинственному миру научности, секретности и исключительности. Уже позже, когда мы знакомились со всем этим «железом» конкретно, оказывалось, что многие образцы годились скорее для музеев, но свою лепту в формирование имиджа факультета они вносили. Особенно интересно было наблюдать, когда на День ракетных войск и артиллерии или День Космонавтики, коридоры alma mater наполнялись военным и штатским людом, увешанным наградами и лауреатскими значками, тут же сновали сотрудники кафедр, а из-за дверей пахло закуской. Отвлекать преподавателей от мероприятий в это время не рекомендовалось, хотя кое-кто и умудрялся растопить их разгоряченные сердца, получив вожделенную подпись или допуск.
Сегодня Школа обзавелась новым учебным корпусом, который строился лет двадцать с лишним и стал как бы мостиком между советской и постсоветской историей. Затяжка строительства объяснялась сначала отсутствием денег в стране перед Олимпиадой, потом после Олимпиады, потом генсеки начали умирать пачками – не до того. Дальше – больше: с перестройкой совпал период ректорствования в Школе известного космонавта. Он обладал харизматической энергичностью, умением пудрить мозги перестроечному партийному руководству, и высокомерно относился к некосмической науке и технологиям. Под влиянием преклонения перед всем западным, возникла сколь неуместная столь же и дорогостоящая идея создать на базе Технилища некий аналог Массачусетского технологического института. Располагаться он должен был в ближайшем Подмосковье, поэтому строительство нового корпуса остановили. Но потом последний говорливый генсек как-то очень быстро «проболтал» бюджет страны, и грандиозный проект канул в небытие. Ректор, которого за глаза называли «космический засланец», пропал в омуте смутных «девяностых», а вот достроили новый корпус только недавно. Но вот будет ли он мостом между прошлым и будущим Технилища - на это ответ могут дать только его нынешние обитатели.
Технилище экспериментальное
или Мать Вашу, Технологии Учите.
Одной из особенностей учебы в Школе были постоянные практические занятия в мастерских, лабораториях, на стендах. Первокурсники проходили последовательно все традиционные технологии «в натуре». Для этого существовали довольно древние помещения, частично пристроенные, частично отдельно стоящие во дворе Главного корпуса. Они сами по себе добавляли экзотики в процесс обучения, а поиск проходов и входов в них вошел в обязательный минимум мучений «козерогов». Здесь они с разной степенью энтузиазма и умения делали литьевые формы, сваривали уголки, точили детали, ковали и штамповали. Пропускать эти занятия не рекомендовалось, так как их приходилось отрабатывать с другими группами. Оборудование мастерских было довольно допотопным, но зато жизненно-наглядным, с совершенно реальными ковшами с расплавленным металлом, формами для литья, сварочными аппаратами, станками, прессами и многим еще, что ассоциируется в нашем понимании со словом «производство». Даже «приколы» на занятиях были вполне реальными: так один из великовозрастных ребенков нашей группы на спор незаметно от преподавателя подбросил в ковш с расплавленным металлом «пятак», который тут же вызвал фонтанчик брызг и искр. Визг шарахнувшихся девушек, как аналог аплодисментов, он «сорвал», но был изгнан преподавателем, заметившим, тем не менее, наглядность проведенного эксперимента, доказывающего разницу в температурах плавления меди и железа. Оборудование той же литейной мастерской было, мягко говоря, не совсем передовым, хотя о самых перспективных разработках нам тоже рассказывали. Позднее, попав на практику в чугунно-литейный цех тракторного завода, мы поняли, что преподаватели просто морально готовили нас к реалиям массового производства с почти дореволюционными технологиями. По крайней мере, запах пригорелой земляной формовочной смеси преследовал нас потом еще долго. Оглядываясь сейчас на годы обучения, начинаешь подозревать, что еще одной целью наших страданий в мастерских и на заводах во время практики было прививание уважения к рабочему классу, который как никак был в то время официальным «гегемоном». И надо отметить, прививка удалась. По мере нашего выгрызания «гранита науки», практические занятия перемещались на другие лабораторные стенды, которые были уже ближе к науке. Гордостью Школы была аэродинамическая труба, которая время от времени распугивала проходящий по набережной народ. Картинка была еще та: вдруг в тишине распахиваются створки - и ты, будто бы оказываешься бок о бок с небольшим торнадо, по крайней мере, рев раздавался очень похожий.
В шестидесятые годы на волне ракетно-космических достижений Технилище обзавелось огромной экспериментальной базой в Подмосковье. Сюда чуть ли не по прямому распоряжению Королева были перевезены уникальные образцы космической техники, начиная от легендарного «Востока» (в натуральную величину!), и заканчивая модулем, который создавался для высадки на Луну. Со временем отдельные кафедры построили на территории базы свои специализированные стенды, на которых отрабатывались самые перспективные технологии. На базу распределялось большое количество выпускников, которые в дальнейшем ставили здесь уникальные эксперименты и проводили значительную часть научных исследований. Попавших сюда студентов поражала территория, а также гигантских размеров конструкция из опор и труб большого диаметра, опутавшая всю территорию экспериментального центра. Для чего она строилась, не могли припомнить даже специалисты – то ли для отвода газов, то ли для подачи воздуха под давлением. По крайней мере, выглядело все это крайне внушительно и напоминало советские фильмы про работу физиков, или эпические ленты Тарковского «Солярис» и «Сталкер». Все эти факторы наполняли сердца студентов чувством причастности к чему-то очень важному и секретному. На самом деле вдали от московской суеты и всевозможных ограничений, на базе очень комфортно и продуктивно работалось. Аналогичный дух научного творчества мне довелось ощутить позднее, пожалуй, только в Сибирском Академгородке. И там и тут во время подготовки и проведения испытаний не в счет были регалии и звания, а «понедельник на самом деле начинался в субботу», как в знаменитой книге Стругацких. Свободный обмен мнениями, идеи, которые тут же использовались для экспериментов – все это заставляло забыть о времени, так что испытания часто заканчивали за полночь. Контингент сотрудников базы состоял в основном из аспирантов и молодых специалистов, которые образовали некое братство, работали и отдыхали вместе – весело и насыщенно. Тут было время и для водных походов на катерах и байдарках, и для дискотек с использованием самопальных, но очень «продвинутых» стереосистем и светомузыки, привлекавших девушек со всего района. На основании экспериментальных результатов, полученных на стендах, было защищено большое количество диссертаций, научная жизнь бурлила, регулярно проводились конференции и семинары. На базу зачастили отраслевые специалисты, для проживания которых даже существовали две квартирки в построенной рядом с базой девятиэтажке. Квартирки эти пользовались весьма своеобразной славой, так как в них регулярно «обмывались» полученные экспериментальные результаты. Свежий воздух, наличие рядом воды для купания и леса для приготовления шашлыков – все эти сопутствующие факторы делали базу популярной и для студентов, и для специалистов. Наш бывший знаменитый завкафедрой, лауреат всевозможных премий и званий, любил привозить сюда военные делегации. Генералы ходили и оценивали предмет кафедральной гордости – моделирующие стенды, напичканные самой современной регистрирующей аппаратурой, слушали рассказы ученых и проникались греющим душу ощущением близкого выполнения директив партии «догнать и перегнать». Когда же эффект грядущих побед усиливался спиртосодержащими смесями (а для гурманов «цвета хаки» – и вовсе «чистым, как слеза»), заметно упрощалось и решение вопросов согласования финансирования новых научных исследований. Правда, в отличие от наших циничных дней, эти средства не разворовывались, а действительно шли на развитие науки. Экспериментальная база развивалась вплоть до начала перестройки, но наступившее впоследствии безденежье ее доконало. Сначала, в годы руководства Школой известным космонавтом многие работы начали сокращаться, так как новый лидер оперировал лишь технологиями «космического уровня», а к фундаментальным и прикладным исследованиям «земных» процессов относился свысока. Обрадовавшись обещанным миллиардам, он планировал перевести часть лабораторий в маячившую на горизонте Щербинку, но проект умер. Позже в безденежные 90-е, специалисты потихоньку разбрелись для выживания, техника обветшала и устарела. Уникальные исследователи ушли в финансовые организации, политику, торговлю, сервисные компании, даже в «казаки» подмосковного воинства, оставшиеся же пытались просто поддерживать большое хозяйство. Постепенно экспериментальная база превращается в исключительно учебно-демонстрационный центр, но до сих пор поражает новые поколения студентов своим размахом и сюрреалистическими конструкциями. Sic Transit Gloria Mundi…
Общаги
или Место Выживания в Тяжелых Условиях.
По многолетней традиции на первом курсе тех, кому повезло, селили в комплекс общежитий, расположенный в старом дачном поселке Подмосковья. Впрочем «повезло» - весьма спорное определение, так как «проживание» в этой общаге было очень похоже на «выживание». Дело было даже не в расстоянии до Москвы (многие ребята из Подмосковья тратили на дорогу и поболее), просто сами условия жизни здесь создавали повышенные требования к стойкости «козерогов». Во-первых, все приехали из своих семей, и само по себе переходить на самообслуживание было делом непростым, во-вторых, навалившаяся куча заданий, чертежей, занятий требовала все большего времени нахождения в Школе, в-третьих, нормальная столовая в общаге функционировала только до трех – четырех часов дня, что сводило вероятность получения регулярного питания к минимуму.
С другой стороны, в связи с ограниченным количеством мест, попасть даже в такое общежитие было делом весьма непростым. При распределении учитывались следующие параметры: учеба на подготовительном отделении и служба в армии («старослужащие» и здесь были в «авторитете»), семейное и финансовое положение, прочие достоинства (спорт, комсомол и т.д.), и только потом – успешность сдачи экзаменов. Такой подход несколько отличался от официально декларируемого, в чем мне и пришлось убедиться. Будучи медалистом и сдав профильную физику на «отлично», я со всей своей абитуриентской наивностью посчитал, что мои заслуги автоматически трансформируются в ордер на поселение. Однако комиссия была другого мнения, о чем мне и было заявлено. Ситуацию спасло только то, что меня, быстро освободившегося от экзаменов, коварно «припахали» на почти месяц в студенческий строительный отряд, занимавшийся ремонтом Главного корпуса. Видя мой совершенно «убитый» вид, командир отряда потащил меня в студенческий профсоюзный комитет, где расписал во всей красе мои вступительные и трудовые подвиги. Так я попал в «квоту профкома», и снова успокоился, а зря. Произошла какая-то нестыковка, и из списка деканата моя фамилия исчезла, так что «в первый погожий сентябрьский денек», я оказался «нигде». Видимо, страх «бомжевания» добавил мне наглости и упорства, я мотался между комитетами, ректоратом и деканатом и писал громадное количество заявлений, прошений и проч. В конце концов, прожив несколько дней буквально в «углу под лестницей» подмосковного дома, я получил-таки заветный листочек, при этом доведя своего замдекана до «белого каления». Он даже пообещал припомнить мне мою наглость, когда мне придется к нему за чем-нибудь придти в будущем. Угроза была высказана столь доходчиво и ощутимо, что я умудрился впервые обратиться к этому «гражданину начальнику» аж на третьем курсе, когда уже все позабылось. Вот так я и стал обитателем «двухкомнатного» номера, в малой комнате которого расположились «заслуженные ветераны армии и подготовительного отделения», а в проходной – «школьники»: двое из Средней Азии были помимо всего прочего кандидатами в мастера спорта, и только мы с Жорой вроде как «безродные», да еще и из относительно близкой области. Контингент других комнат был примерно таким же, так что «левых» и «блатных» не наблюдалось.
И начались суровые будни. Каждое утро начиналось одинаково: двадцать минут веселенькой ходьбы до станции, сорок минут на электричке и около получаса на троллейбусе или трамвае – и вот ты невыспавшийся и полуголодный сидишь и внимаешь лектору. Хорошо, если удавалось перехватить в станционном буфете засохшую булку, запивая ее сладким до липкости кофе, а то – жди большой перемены, чтобы добраться до буфета (для скорости студенческого перекуса делались еще выносные столы с неразлучной «парочкой»: лимонным напитком и сочником). Проторчав в храме науки до вечера и проголодавшись, ты был обречен на буфет в общежитии со своим незатейливым и стандартным набором: салат или винегрет и толстые сардельки, которые постоянно варились под руководством могучей буфетчицы. Возвышаясь могучими формами над стойкой, она зорко следила за нами, прикидывая, годится ли кто-нибудь в женихи ее созревшей дочери. Так что, если вдруг тебе ласково предлагали небольшую добавку, это значило, что ты признан потенциально «бракоспособным». Особенно был замечаем Леха с ласковым прозвищем «Глыба»: он был после армии (а значит – надежный), ростом под метр девяносто и весом под центнер (а стало быть – должен много кушать), да и силушкой бог не обидел (в хозяйстве пригодится). Так что Леха проходил у буфетчицы по «первому разряду». Конечно, все стали замечать, что порции салата или макарон, которые он получал, значительно превышали средне отвешиваемые при той же цене. Это вызвало кучу шуток и приколов, хотя и без особого усердия, все-таки Леха занимался боксом в тяжелом весе. Он, правда, старательно делал вид, что ничего не замечает, но через какое-то время встал перед нелегким выбором: или быть как все полуголодным, но свободным, или вступать на скользкую дорогу развития отношений с рвущейся к браку отроковицей и ее щедрой мамашей. Не обуреваемый высокими моральными принципами, Леха решил попробовать вариант «и мышку съесть, и…», что сразу же отразилось на размере его порций. Часть слабого духом народа ему завидовала, другая часть с интересом наблюдала за процессом. Время шло, наш потенциальный жених виртуозно в течение месяцев четырех умудрялся избегать более решительных действий, прямо как Кутузов с Наполеоном. Потом все же дело дошло до знакомства с девицей, домашних обедов, после которых Леха приходил с одной стороны сытым и расслабленным, с другой – озабоченным, видно обликом дочура уж очень походила на маменьку. Танцы на новогоднем вечере подтвердили наши опасения: несмотря на юность, формы девушки так и рвались наружу из одежды, и этот порыв должен был иметь какой-то выход. Конец истории был предсказуем: когда все шуточки уже стали стихать, и общество начало готовиться к потере товарища, между потенциальными строителями ячейки общества пробежало кто-то. В результате, какое-то время Леха вообще не рисковал появляться в буфете, а, появившись, удостоился порции такого размера, который явно не мог сохранять жизненную силу его могучего организма. Более того, разочарование несостоявшейся тещи было распространено и на весь наш подлый студенческий люд, что сразу отразилось и на наших желудках. Но молодость легко заживляет раны, а человек-то все-таки был спасен. На ближайшей пирушке Леха «проставился» за счастливое избавление от сладких, но тяжелых пут, хотя до конца нашего обитания в этой общаге гордо терпел и пищевые ограничения, и нелицеприятные комментарии буфетчицы.
Суровые будни дачного проживания имели и свои положительные моменты. На полпути до станции располагался неплохой стадиончик, на котором всегда можно было поиграть в футбол и/или распить горячительные напитки. Изолированность и удаленность от соблазнов большого города, давала возможность иногда сосредотачиваться на учебе, особенно когда дело касалось черчения, а тут имелись и какой – никакой чертежный зал, и библиотека. Так что задания зачастую делались коллективно, а уж если особенно везло, можно было найти аналогичный вариант домашнего задания и договориться о совместном его решении со студентами, рассыпанными по факультетским корпусам. Перед экзаменами по общаге иногда ходили чудесным образом скопированные «билеты», которые изучались страждущим сообществом примерно так, как это изображено в гайдаевских «Приключениях Шурика». Неутомимая студенческая разведка очень скоро обнаружила чуть дальше от Москвы еще один интересный объект – мясокомбинат, который позволял время от времени не только наесться до состояния ограниченной подвижности, но и заработать за перемещение мороженых туш законные три рубля. Но не только эта сумма влекла нас в эту «страну чудес». Опытные соратники серьезно готовились к походу на мясокомбинат: одевалась одежка размера на два-три побольше, штанишки «а-ля Чарли Чаплин», обязательно бралась веревка и нож, а также много хлеба. Хлеб помогал проглотить огромное количество «тройного» бульона и вареного мяса под участливое приговаривание профессиональных грузчиков: «Ты, студент, на бульон, на бульон нажимай, от него самая сила и есть». А вот весь остальной «прикид» позволял вопреки моральному кодексу строителя коммунизма вынести под одеждой при удачном раскладе пару-тройку килограммов мясной продукции. Такой вот «мясной» человек обычно был встречаем дружбанами, которые помогали извлечь размещенные на теле и ногах куски мяса, колбасы и т.д., после чего в комнате общаги происходило пиршество. К самому факту «выноса» в то время относились достаточно лояльно, по крайней мере, штатные грузчики мясокомбината проделывали данные процедуры постоянно и были самыми изощренными консультантами для нас, «непосвященных».
Культурная жизнь в отдельно взятом местечке Подмосковья тоже имела место быть. В общаге по праздникам устраивались дискотеки к радости местного девичества. В связи с тем, что в суровые условия селили лишь мужской контингент, степень концентрации гормонов в отдельно взятой местности просто зашкаливала. Местные юноши и подумать себе не могли конкурировать с истомившимися студентами, так что конфликтов на этой почве даже не происходило. В качестве приманки для женских мотыльков использовался неплохой набор музыкальных инструментов и самородок – виртуоз по фамилии Биденко или просто Бидон. Он обладал внешностью Мулявина из «Песняров», пришел на учебу после армии и подготовительного отделения, а на соло-гитаре выучился играть сам. Иногда, особенно под действием горячительных напитков, Шуру начинала обуревать мания величия и, повесив «мулявинские» усы на микрофон, он выдавал такие «соляки», в стиле Блэкмора, что оставшаяся часть наскоро собранного ансамбля просто не знала, как ему соответствовать, а танцующая братия останавливалась и начинала бурлить и требовать вернуться на грешную ритмованную землю. Обычно в качестве реанимации выступали полстакана портвейна, и минут через пять Биденко вновь возвращался к творчеству Битлз, песни которых он знал в большом количестве. В любом случае для подмосковной глубинки он был почти гением, что, правда, не спасло его от вылета во втором семестре. Ближе к лету культурная жизнь получила развитие в виде посещения танцев в соседнем городке с авиационно-космическим названием. Как правило, туда отправлялся весьма внушительный отряд студентов, что в целом значительно меняло расклады на тамошних дискотеках, а местные дамы весьма благосклонно относились к появлению кавалеров с недосягаемым для местных IQ. Это в свою очередь приводило к определенным конфликтам, которые иногда переходили в драки. Как правило, они протекали по одному и тому же сценарию: вначале аборигены, имевшие локальный численный перевес, теснили удачливых чужаков, но затем срочно отправленные в комплекс общаг гонцы с криком «Наших бьют!» легко поднимали на ноги подавляющую часть проживающих, а далее сплоченный идеей отряд бойцов наглядно демонстрировал преимущества организованной дружины перед толпой, как когда-то римская когорта рассеивала варварские орды. Без лишнего шума, несколько десятков человек проносилось по танцплощадке и улицам городка аккуратно «укладывая» всю мужскую часть населения, которая потенциально могла относиться к обидчикам. После такой акции, в полном соответствии с правилами «зачисток», конфликты на танцах надолго прекращались, и мы могли спокойно купаться в женском внимании. К сожалению, ссылка в этот райский уголок полагалась только первокурсникам, и через год уже новому поколению обитателей приходилось напоминать аборигенам, что люди уезжают, а традиции остаются.
Почти обжившиеся в дачном «раю» и преодолевшие «мясорубку» первого семестра, ближе к лету мы столкнулись с одной дотоле скрытой угрозой. Когда солнце достаточно согрело землю, окрестности общаги заполонили дачники, истосковавшиеся за зиму по ползанию по грядкам. Они столь рьяно принялись поливать свои латифундии, что давление воды в водопроводе резко упало. Естественно, жители вторых этажей общежитий первыми поняли, что система канализации, слепленная умельцами, наверное, еще до войны, категорически отказывалась утилизировать естественные отправления полных молодого задора студенческих желудков. По коридорам поползли соответствующие запахи, а всевозможные ответственные лица только разводили руками. Правда, они еще не знали, с кем связались: неунывающая братия накатала на имя многозвездного генсека коллективное письмо, в котором в преддверие очередного съезда нашей партии выразила сожаление, что неправильные запахи мешают сосредоточиться на всестороннем изучении классиков марксизма – ленинизма, а также борьбе за победу коммунизма во всем мире. Как ни странно, послание сработало, в общагах появились скучные строгие люди, которые для начала пожурили писателей за то, что они отрывают занятых людей от каждодневных забот обо всем советском народе. Тем не менее, запах очень наглядно подтверждал «сигнал с места», так что на него надо было «реагировать». Поняв, что борьба с дерьмом невозможна без строительства новой системы водоснабжения (что само по себе является фантастикой), а победа над оным продуктом никаких регалий и карьерных передвижений не даст, бравые ребята нашли – таки гениальное по простоте решение. Дня через три на территории комплекса появилась бригада мужичков с одинаковыми лицами красновато-сизоватого отлива, вооруженных деревообрабатывающими инструментами. В рекордные сроки были сооружены несколько знаменитых сооружений выгребного типа, которые сделали нашу жизнь уж совсем дачной. Зачеты и экзамены пошли веселее, а мы получили наглядный пример, что безвыходных ситуаций не бывает.
Как и положено, те из нас, кто перешел на второй курс, простились с подмосковной общагой не без некоторой грусти. Человеческая память склонна помнить хорошее (а разве в юности бывает плохое?), поэтому в дальнейшем дачные приключения вспоминались очень милыми. Позднее, проезжая по Казанке, я каждый раз смотрел в окно: вот стадион, вот забор и двухэтажные деревянные корпуса, а потом еще долго всплывали из закоулков памяти знакомые и всегда молодые лица моих друзей. Кстати, помимо закалки характера, я приобрел от пребывания в этом местечке стойкую способность на многие годы практически мгновенно засыпать в электричке, неизменно просыпаясь на нужной станции. Так, что академик Павлов был прав…
На втором курсе нас переместили из дачных мест в исторический центр Москвы, навечно связанный с именем советника Петра Великого. Здание этой общаги было, судя по всему памятником эпохи «конструктивизма», да и не ремонтировалось, похоже, с той же эпохи. Оно стояло в ряду аналогичных и более поздних домов, в которых располагались студенты отпочковавшихся когда–то от Технилища учебных заведений: энергетического, строительного, связи. Место было весьма неплохим: до Школы близко, тихо и зелено, ставшая известной позднее главная политическая тюрьма тогда была не упоминаема всуе, зато были бани, в которые можно было время от времени ходить, даже на студенческую стипендию. Наличие рядом общаг других вузов нас даже радовало, так как процент студенток в них был выше, чем у нас, что давало возможность, в полном соответствии с дедушкой Мичуриным, осуществлять «перекрестное опыление» (так мы называли походы на танцы к нашим соседям). Студенческие городки того времени несли особый дух свободы и безопасности. Здесь можно было 24 часа в сутки встретить загулявших студентов, впрочем, вполне безопасных и без раздумий способных защитить тебя от хулиганов. Это разительно отличается от нынешней поры, когда и студентами становятся непонятно кто, и оно же проживает в студенческих общагах. Так оказавшись недавно в описываемом районе, не мог отказать себе в желании поностальгировать и пройтись по памятным местам, о чем и пожалел. Меж обшарпанных зданий наших общаг сновал кавказско-китайско-вьетнамско-неопределенный люд с баулами и без, грузились и отъезжали какие-то машины, а физиономии нынешних аборигенов совсем не располагали к общению. Проходя знакомыми дворами и арками, я не мог избавиться от ощущения, что чего-то не хватает, а от этого становилось еще тоскливее. Уже позже я понял причину дискомфорта: из окон совершенно не доносилась музыка, а ведь в наше, не избалованное музыкальными центрами время, каждый счастливый обладатель магнитофона или проигрывателя стремился порадовать окружающих любимыми мелодиями, хотя порой это было и слишком навязчиво.
Что касается интернационального окружения, то проживавшие в соседних общагах темно-, желто- и краснокожие представители дружественных нам стран поначалу даже заглядывали в наш буфет, правда при этом встречали удивленно-отстраненную реакцию, а посему постепенно исчезли. Объяснялось все просто: мы учились в «закрытом» вузе, что само по себе не располагало к общению, к тому же «залетные» позволяли себе тогда поощряемые вольности, а в нашей суровой среде они не проходили. Эти «моментики» обострялись летом во время сдачи сессий: кто-то учил, кто-то отдыхал, кто-то обмывал сдачу, из открытых окон неслись звуки жизни, а так как расстояния между корпусами были небольшими, создавалось впечатление большой коммунальной квартиры. Наши демократические и развивающиеся друзья особенно любили устраивать шумные гуляния под аккомпанемент женских визгов и диско, так что в ответ с нашей стороны порой раздавался крик души какого-нибудь страдальца, сдающего завтра сопромат, о том, что он думает о веселых иностранцах, их родственниках до седьмого колена, и даже о солидарности с народами Африки, Азии и Америки. Слово за слово, и вот уже к дискуссии подключались все новые участники, а иногда в «гуляющие» окна мог залететь и булыжник. Слово «толерантность» тогда мало кто знал…
Издержки архитектуры 20-х, 30-х годов на новом месте обитания мы поняли достаточно быстро: в сплошные вдоль всего фасада линии окон безбожно задувал ветер, а все места общего пользования были ну уж совсем «коммунными», то есть общими для всех и единичными на несколько этажей. Все это в совокупности с отсутствием ремонта со времен «волюнтаризма» явилось для нас новым, хотя и привычным уже испытанием. Порядки в общежитии были достаточно лояльными: на входе сидела бабуся – типичный божий одуванчик, так что пройти и, что более важное, провести можно было без проблем кого угодно. Оперативный отряд поначалу затеял некие обходы по проверке быта и санитарии, но был «не понят» старожилами, прошедшими через подмосковные испытания, а посему сам собой свернул фискальную деятельность. Здание местного магазина примыкало к нашему, так что некоторые студенты устраивались в него на работу грузчиками, а в комнату тянули провод со звонком, по которому их и вызывали, когда приезжали машины с товаром. В магазине царили могучие продавщицы, которые относились к нам вполне по-дружески и даже без просьбы нарезали покупаемые колбасу и сыр для вечернего «полдника». Коридорная система способствовала интенсивному общению, в коридорах болтали, пели, играли на гитаре, флиртовали, готовились к экзаменам. Сюда же выносились столы во время важных празднований, когда места в комнатах не хватало. Был момент, когда своеобразным украшением столов были трехлитровые банки с водкой, и это не было казусом торговли. Просто в числе знакомых представительниц прекрасного пола наших «послеармейских стариков» оказались скромные труженицы ликероводочного завода. Выносимые в грелках на их вечно тоскующих телах горячительные напитки сливались в банки и потреблялись нашим сообществом на различных мероприятиях, повышая заодно и градус любви. Однако такие емкости имели и опасную оборотную сторону: с ними было трудно определять выпиваемую норму, так что время от времени, чьи-то совсем расслабившиеся тела распределялись по комнатам. Время от времени из разных уголков страны в общагу приезжали члены семей ее обитателей. На время этих своеобразных «побывок» комнаты приводились в весьма условный порядок, заслуженные работницы – «штуцерщицы» получали временный отпуск, из «гостевых» комнат разбредался народ с матрацами в поисках свободной койки, а по коридорам носились перемазанные в шоколаде неизвестные дети, а дамы в халатах и бигудях разыскивали их по всем закоулкам.
Спустя год после нашего вселения, руководство Школы вполне логично приняло решение наплевать на историческую ценность памятника эпохи, и общагу отремонтировали. Произошло еще одно локальное переселение, теперь уже до самого окончания института, и наше дальнейшее существование стало гораздо менее похожим на выживание.
Вообще-то основной студенческий городок Технилища располагался в парковой зоне, где целый квартал составляли корпуса разных факультетов. Место было приятное, располагающее к романтическим прогулкам и занятиям спортом. Мы какое-то время прожили здесь, но потом бывали редко, так что проникнуться духом этого городка не успели. Думаю, лучше об этих общагах расскажут их обитатели…
Субъекты Школы
Школа – это, прежде всего люди, которые окружали меня и моих сокурсников. Они были разными: друзья, приятели, знакомые и незнакомые студенты, аспиранты, преподаватели, сотрудники, все те, кто собственно во все времена и составлял главное богатство славного вуза. Не претендуя на абсолютную точность описания и, не желая в какой-то мере затрагивать личную жизнь описываемых, попробую нарисовать некоторые типовые портреты окружавших меня людей, возможно собирательные, но оставшиеся в памяти очень яркими.
Серёги
или Моих Воспоминаний Тихий Уголок.
Трудно быть отстраненно-объективным при описании людей, с которыми прожил вместе не один год. В связи с тем, что на втором курсе ряды студентов существенно поредели, количество мест в общежитии увеличилось, соответственно, в дружные ряды прошедших подмосковное «чистилище» влились новые фигуранты, рассеянные до того по съемным площадям у «бабулек» и знакомым. Коллективы комнат создавались полустихийно: кто-то кого-то знал по учебе на одном потоке, кто-то – по стройотряду или спортивным занятиям. Вернувшись из заслуженного в стройотряде отпуска, в институте я попал уже к завершающей стадии формирования заселенцев, так что обрадовался, увидев такого же озабоченного Серёгу, с которым мы вместе клали кирпичи и таскали бетон в подмосковном местечке с ласкающим ухо названием Струпна. Оказалось, что Сергей был не один, а вместе с тезкой из их группы, так что я сразу понял, что загадывание желаний в ближайшей перспективе мне обеспечено. В связи с тем, что и внешние габариты, и массовые характеристики Серёг разительно отличались, буду для простоты называть их Большой и Малый. Так, в общем-то, случайная встреча объединяет людей, а потом уже и не мыслишь, что все могло быть по-другому.
Серега Большой был из плеяды детей «специалистов – подвижников», созданных советской властью и брошенных ею же в эпоху «большого развала». Его отец был одним из руководителей горнодобывающего комбината в Средней Азии, выдававшего «на-гора» ту самую руду, из которой ковался атомный щит нашей в целом миролюбивой страны. Вообще, структуры бывшего Минсредмаша с легкой руки незабвенного Лаврентия Павловича представляли собой совершенно уникальное явление: разбросанные по всему Союзу, они были своеобразным «государством в государстве», даже законодательство на их территории было российским. Специалистов в эти закрытые городки привлекали не только высокие зарплаты и быстрое получение жилья, но и определенный стиль жизни. Я думаю, что если бы можно было в то время провести модное нынче определение IQ у жителей в этих поселках, он был бы просто на зашкаливающем уровне. Находиться в такой среде было интересно, как в большой и умной семье (желающие могут получить представление об этом, посмотрев потрясающий фильм «Девять дней одного года»). При этом неважно, чьи дети занимались в школах – главного инженера или экскаваторщика – уровень образования был в поселках достаточно высоким. Жители закрытых административных территориальных образований (ЗАТО) – кажется так они именовались официально – на территориях бывших советских республик, заметно контрастировали с местными жителями, одновременно ломали почти средневековый уклад их существования и, по сути, несли цивилизацию в богом забытые земли. Тем неприятнее предательство со стороны когда-то великой страны и России, как ее правопреемника, которые при распаде СССР просто бросили свои лучшие кадры на произвол судьбы в среде вдруг осознавших свою национальную гордость аборигенов. По закону Ломоносова рост этой гордости привел к падению умственных способностей, поселки и производство при них пришли в запустение, а национальный контингент теперь гордится получением должности разнорабочих в российских городах. Но все это было потом, а в описываемое время Сергей Большой вносил в нашу маленькую семью теплое дыхание Средней Азии. По крайней мере, уже с февраля месяца мы начинали время от времени получать «витаминные посылки» с одуревающе-душистыми плодами Юга в виде редиски, лука, укропчика и других даров природы. В промозглой Москве это было сродни мандаринам на Новый год, а уж для наших авитаминозных учебных будней – просто солнечная отрада. Майские праздники, на которые простой студент Серега имел возможность слетать домой (мы ему особо завидовали, так как он делал это на сверхзвуковом ТУ-144), для нас означали последующее вкушение каких-то запредельных лакомств из абрикосов, клубники и проч. Именно вкушение, так как в условиях общежитейского братства наесться дарами не получалось: на ароматы будто невзначай заглядывали, казалось, все проходящие мимо обитатели. Но Большой достойно нес свой крест спасителя наших организмов, будучи от природы человеком спокойным и рассудительным. Было у Сереги еще одно качество, которое выделяло его из наших разношерстных рядов, - у него была большая школьная любовь, которая уехала учиться в революционную столицу нашей страны, обзывавшуюся тогда Ленинградом. Конечно же, все мы ему по-доброму завидовали, хотя и приходилось ему разрываться между столицами и далеким домом. Для нас такая любовь была как некий чистый родник отношений, даже эталон, так что мы по мере сил старались, чтобы никакие тучи не омрачали их взаимное стремление. Вообще только сейчас с высоты лет понимаешь, сколько работы души требовалось, чтобы сохранять такую любовь среди постоянно искушающего мира, да еще и во времена разудалой студенческой действительности. Мы же старались быть рыцарями – хранителями до конца, мужественно преодолевали неудобства во время их встреч в Москве, да и в периоды неизбежных размолвок помогали, как могли. Зато все и окончилось, как в красивых фильмах – настоящей студенческой свадьбой, а потом и последовательностью свадеб из разных материалов, вплоть до драгоценных. После распределения Сергей перебрался на свою малую инженерную родину в солнечную республику, сделал хорошую карьеру, родил сынов, а потом…. Потом были внутриазиатские разборки, похожие на войну, скоропостижный отъезд в «Россию девяностых», которая была как бы все время «с похмелья» и никому ничего не должна. Тем не менее, школьная любовь, окрепшая под эгидой Школы, все преодолела, так что остается только поклониться ее результативной стойкости.
В противоположность медлительно-рассудительному Большому, Серёга Малый был по-школьному изящен и порывист. Будучи выпускником специализированной физико-математической школы, он в группе был сразу отнесен к «вундеркиндам», с соответствующим отношением и «прикалыванием». У послеармейских «стариков» подростковость Малого вызывала чувства почти отеческие, у остальных – «старшебратские». По причине малой телесной массы, ему трудновато приходилось на наших студенческих «сейшенах», не отличавшихся трезвостью. Впрочем, у этого качества была обратная сторона: в то время как мы потребляли все большее количество спиртосодержащих напитков, приближаясь (а иногда – и превышая) допустимый литраж, Серый успевал за вечер «вырубиться», вздремнуть, отсидеться где-нибудь в ванной, и вернуться к почти трезвому состоянию. Последующее сопровождение наших расслабленных тел в общежитие было для него малоприятной процедурой, во время которой мы получали свою долю шипения по поводу нашего поведения и склонности к спонтанному и непрерывному смеху Серёги Большого. Хмурый утренний «бодун» всех нас подравнивал, и вчерашнее казалось не более чем еще одним приключением, а вот пиво – актуальным вожделением. Аналогичные трудности возникали у Малого и в части отношений с противоположным полом: стремление уберечь нашего «инфанта» от его вредоносного влияния на неокрепшую душу и организм, обычно приводило к тому, что девушек расхватывали более циничные и стойкие. Это глубоко возмущало Серегу, но сути не меняло. Так или иначе, наш вундеркинд, настрадавшись к третьему курсу положением младшего брата, вдруг взял … и женился. Как часто бывает в такой ситуации, в этом альянсе было трудно установить, кто из них кого нашел, но крепкая телом девушка овладела нашим соратником полностью и бесповоротно. Любовь со стороны Сергея протекала бурно – с признаниями обо всех предыдущих влюбленностях, включая артистку Веру Глаголеву, с прогулками по зимнему парку и валянием в снегу, детскими обидами на наше подтрунивание и отлыниванием от несения простых функций сожительства, связанных с уборкой комнаты и приобретением по очереди продуктов. Когда же у них «дошло до этого» и наш «взятый на грудь» Серёга явился просто светящимся изнутри и даже снисходительно позволил себе не обращать внимания на наши приколы, мы поняли: соратника не вернуть, а традиции Школы насчет ее студенток верны. Будущая теща закатила в небольшом городке веселую студенческую свадьбу, на которой вся группа гуляла так отчаянно, как это могут делать только студенты. Молодые поселились в освободившейся комнате в другом общежитии, так что наш друг «оторвался от взрастивших его корней». В дальнейшем, молодая супруга весьма эффективно ограничивала общение Малого с нашим не совсем высокоморальным окружением, и даже во время вполне безобидных совместных отмечаний праздников вроде бы незаметно отдавливала ему ногу, предостерегая от различных излишеств. Возможно, это было и правильно, так как впоследствии их ячейка общества прошла сквозь годы вполне успешно. Жизнь забросила Малого на цветущую и «салообразующую» Украину, где он совсем не затерялся, стал руководителем и заядлым рыбаком, хотя в наше время мы за ним такого хобби не замечали.
Были у Серег и другие общие черты, помимо имени, студенческих свадеб и последующего рождения двух сыновей. Оба просто сливались в экстазе на почве любви поспать. Занятия в Школе начинались довольно рано, поэтому каждый вечер наблюдалась одна и та же картина. Оба моих сожителя начинали просить разбудить их к первой паре, так как лекция (семинар) будет очень важным. Наученный горьким опытом, я дипломатично выражал сомнение в искренности этих заявлений, однако давал слабину и обещал разбудить столь тянущихся к наукам соратников. Утром же из раза в раз картина тоже повторялась: сначала на предложение подняться следовала тишина, затем невнятное бормотание спросонья о том, что я – садист, время слишком раннее, да и лекция в принципе ненужная и т.д. и т.п. Разозленный и исчерпавший даже недипломатичные методы убеждения, я давал зарок больше не заниматься таким бесперспективным занятием, но наступал вечер, и опять начинались старые песни про важность завтрашних утренних занятий. Но, пожалуй, лишь в этом вопросе наши часы работали вразнобой – все остальные вопросы решались совместно и вполне оперативно, так что с соседями мне повезло.
«Фигура»
или Математика Верховодит, Талант Уходит.
Все знали его больше не по имени – Юрка, а по прозвищу – «Фигура». И был он продуктом своего времени и тогдашней студенческой жизни, а также личностью, о которой потом годами передавались из уст в уста легенды. Такие люди были почти во всех вузах, и без них трудно передать дух того времени.
Когда мы пришли в Технилище, он уже учился несколько лет, за время, проведенное мной в вузе, сумел перейти с третьего на четвертый курс, отчисляясь через год, но неизменно восстанавливаясь, причем по слухам не без помощи ректората, и без всякого намека на «мохнатую руку» где-то наверху а, тем более, без взяток. Просто Юра был безумно талантлив, но столь же безумно и беспечно ленив и неорганизован. Бессменный «прима» институтской агитбригады, он легко доводил до колик зрителей, рассказывая что-нибудь из Зощенко, или скетчи из студенческой жизни, либо разыгрывая сцены из «Мадемуазель Нитуш». Кроме того, он пел, играл на нескольких инструментах, неплохо рисовал – словом был незаменимым атрибутом всей внеучебной жизни. К большому сожалению, описываемый период совпал с исчезновением такого явления как Клуб Веселых и Находчивых с телеэкранов и сцен, иначе Юрка, наверное, обязательно бы засветился среди его фигурантов. По крайней мере, на фоне нынешних «самородков» и резидентов «Комеди клаб» Фигура смотрелся бы абсолютно органично и современно. Помимо всего прочего он еще был и ангелом – спасителем для «козерогов», помогая им с черчением, математикой, термехом и т.д., при этом выполнение своих заданий во время очередного периода учебы оставлял «на потом». Где-то в Белоруссии на него давно охотились и военкомат и милиция, но он умудрялся раствориться в Москве. Жил он в общагах, естественно, на «птичьих правах», но это его нимало не смущало. Часто можно было видеть Юрку с матрацем и подушкой в руках, шествующего по коридору и заходящего в комнаты в поисках свободной койки. Отказать ему было невозможно, но при возвращении законного владельца, место освобождалось, и вновь маячила в коридоре его высокая фигура со спальными принадлежностями. Деньги у студентов Юрец старался не занимать, но сигареты «стрелял» постоянно, хотя и сам раздавал их с легкой душой, когда у него вдруг появлялись средства. Как-то по общаге пронесся слух, что группа замдеканов приедет, чтобы посмотреть на быт их подопечных. Фигура исчез куда-то и появился с красками и листами ватмана. Часа за три были нарисованы несколько картин в трудноопределяемом стиле, зато с броскими названиями: «Ужас», «Экстаз», «Похмелье» и т.д. и т.п. Картины были развешаны по комнатам и произвели неизгладимое впечатление на «замдеков», особенно «Похмелье», написанное не только с душой, но и с истинным знанием вопроса. Проявленный интерес наткнулся на встречное предложение продать шедевры по сходной цене, а так как члены делегации не могли «потерять лицо» перед внимательно наблюдающими за ними студентами, то все произведения «ушли» рублей за 20. Высокая комиссия, осчастливленная «шедеврами», сконфуженно исчезла, а Юрка «накрыл поляну» и провозгласил тост за истинных ценителей искусства и регулярные приезды проверяющих (по странному стечению обстоятельств, замдеканов после этого очень долго в общаге не видели). На следующий же день он опять ходил по коридору и «стрелял» сигареты. Однажды Фигура уехал куда-то и исчез, наверное, операция по захвату его военкоматом прошла успешно…
Своё Спасибо, еще не выражали.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
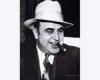
Группа: Дебютанты
Регистрация: 7.12.2011
Публикаций: 0
Комментариев: 123
Отблагодарили:0
Сей достойный труд был прочитан не без интереса, но сильно длинное предисловие его портит. В порядке самосохранения надобно уменьшить.
Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.


Группа: Дебютанты
Регистрация: 24.01.2011
Публикаций: 0
Комментариев: 355
Отблагодарили:0