Личность и общество: проблема социально-духовного взаимодействия. Монография
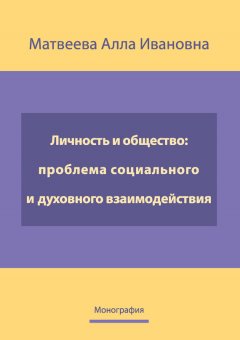
Автор:Алла Матвеева
» Все книги этого автора
Жанр: монографии, социология
Тип:Книга
Цена:164.00 руб.
Издательство: Бук
Год издания: 2016
Язык: Русский
Просмотры: 190
КУПИТЬ И СКАЧАТЬ ЗА: 164.00 руб.
ЧТО КАЧАТЬ и КАК ЧИТАТЬ
Личность и общество: проблема социально-духовного взаимодействия. Монография
Алла Ивановна Матвеева
В монографии раскрываются сущность и основные пути развития духовной социализации личности в современном российском обществе. Особое внимание уделено анализу духовных основ и социально-правовых проблем социального взаимодействия.
Алла Матвеева
Личность и общество: проблема социального и духовного взаимодействия. Монография
© Матвеева А. И., 2016
* * *
Введение
Методологической основой современных либеральных трактовок процесса социализации личности служит искусственная психологизация проблемы. Однако современная психология расколота сегодня как никогда раньше. Противоречия, существующие между бихевиористами, гештальтистами, эволюционистами, адаптистами, обстоятельно раскрыты М. Хантом [260]. Они свидетельствуют о том, что у психологов нет единого мнения о гносеологических и онтологических основаниях социализации личности.
Это обстоятельство также в полной мере находит свое отражение и в современной социологии, которая в качестве науки претендует на выяснение таких оснований. Так, В. Радаев, рассуждая о так называемом «социологическом империализме» (стремлении социологии взять на вооружение достижения других гуманитарных наук), обратил внимание на то, что в его основе лежит рациональный выбор. Теория рационального выбора, как известно, исходит из того, что человек заранее обладает всей полнотой информации о внешней среде и осуществляет свой выбор, сообразуясь с индивидуальными экономическими интересами [230, с. 158–160]. Но это порочная теория, поскольку никогда и нигде человек не обладал и не обладает всей полнотой информации об окружающей его внешней среде, а тем самым его индивидуальный выбор в строгом смысле слова никогда не будет рациональным. А уж тем более, когда этот выбор сводится к удовлетворению индивидуальных экономических потребностей, преимущественно низшего уровня. Ссылаясь на создателя социологии рационального выбора Дж. Коулмана (1926–1995), В. Радаев, однако, признает, что основанием «макротеории» этого автора является поиск им «микрооснований» [241, с. 49–50]. Вот уж действительно будет справедливым рассматривать «проблему набивания желудка» в качестве «микрооснования» для «макротеории» социализации личности.
А именно так и ставит вопрос современная западноевропейская неклассическая философия. При этом вопросы духовного развития личности для нее остаются в значительной степени на периферии исследований. А если оные и осуществляются, то в таких терминах, что ни о какой духовной социализации говорить не приходится. Так, Ж. Делез и Ф. Гваттари для обозначения смыслообразования использует термины «плато», «ризома», «сборка», но что лежит в их основе – не проясняют. Их главный тезис состоит в самопричинности и самопроизвольности таких смысловых «сборок» и «ризом». В работе «Капитализм и шизофрения» (1980) авторы прямо заявляют, что «сборки не перестают изменяться, они сами подвергаются трансформации» [220, с. 136]. Доведенная до беспредельности множественность смысловых конфигураций вообще уводит читателя от понимания того, как формируется духовность человека и есть ли она вообще. Если это и не шизофренический подход, то методология, которая «перестала быть», доведенная до абсурда.
В связи с этим многозначительным является признание Ж. Бодрийара о том, что «в современных условиях происходит отказ от традиционных ценностей. Сама реальность под влиянием информатизации растворяется в виртуальности, естественное – в искусственном, жизнь – в смерти. Само существование человека вовлечено в парадоксальную симулятивную систему, сама жизнь становится призрачной» [216, с. 310–313].
Поэтому нам представляется совершенно уместным сделать вывод о том, что ни современная западная психология, ни социология или философия по большому счету не берут в расчет то фундаментальное обстоятельство, что человек – это существо духовное. Прагматизм западной гуманитарной науки сегодня превзошел все мыслимые границы. Фетишизация меркантильного начала в человеке представляется ярчайшей ее характеристикой. Но в таком случае правомерно вести речь не о человеке как таковом, а о некоем гомункулусе, отраженном в кривом зеркале наукообразной фразеологии.
Мы же исходим из совершенно иной предпосылки, согласно которой гоминид становится человеком в той мере, в которой он осваивает, усваивает и развивает (усовершенствует) ценности духовной культуры. Человекообразное существо или шишковидная обезьяна – это недочеловек, предчеловек. Кстати, весьма интересен и вывод В. Мерцалова о том, что «современный человек занимает отнюдь не верхнюю, как принято думать, а лишь промежуточную ступень на «лестнице» своей эволюции. Происхождение человека еще не завершилось» [235]. Учитывая состояние его духовной социализации в современных условиях, с этим суждением можно согласиться.
Поэтому объект нашего исследования – личность, а предмет нашего анализа не исчерпывается природой гоминида, он непосредственно касается природы человека. А природа человека «схвачена» в его духовности, а отнюдь не в его животности. Поэтому возникает вопрос об определении места и роли духовности в иерархии подлинно человеческой природы. Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к поведению человека, к его поступку. Философия поступка есть отражение роли духовности в жизни человека. Вне такой философии нет и не может быть поступка. Речь идет не о психосемантике, достаточно активно исследуемой в современной психологии [234, 261], а именно о философии, являющейся основанием для формирования мировоззрения личности. Поскольку животные не обладают способностью к поступку как осмысленному действию, детерминированному ценностными ориентациями, поскольку у них нет духовности и сознания, они мало чем отличаются от предчеловека – от гоминида. Иное дело – человек, т. е. живой организм, наделенный духом и сознанием, которые детерминируют его поведение. «Слепота некоторых людей к моральным правилам – это почти то же самое, что недостаток здоровья или ума. Отсюда мы можем заключить, что они страдают тяжелым моральным недугом» [84]. Поэтому предмет настоящего исследования охватывает также и само поведение индивида, которое мы рассматриваем не в социально-психологической плоскости, а в социально-философском и духовно-нравственном аспектах. Именно поэтому духовная социализация личности – предмет нашего анализа, рассматривается в контексте поведения людей. Как поведенческий феномен, социализация неразрывно связана с психологией, которая играет важную роль в формировании и закреплении определенных стереотипов поведения. Э. Берн справедливо отмечал наличие «я-концепции» в структуре индивидуальности и ее связь с процессом воспитания [215]. Но одной психологии недостаточно для объяснения человека как существа духовного и социального. Необходима социально-философская реконструкция такого процесса воспитания, которая и есть не что иное как духовная социализация личности. В настоящей работе предпринята попытка такой социально-философской реконструкции феномена духовной социализации личности с опорой на достижения русской философии, прежде всего, на наработки представителей идеал-реализма. Диалектическое единство этических и социальных аспектов данной проблемы предполагает рассмотрение конкретных условий, механизмов и способов духовной социализации личности в контексте различных предметно-практических форм социального взаимодействия.
Духовная социализация немыслима без таких исторически конкретных стереотипов взаимодействия, как солидарность, кооперация, товарищество, сизигийность, соборность, коллективизм, партнерство и т. д. Поэтому комплексный социально-философский подход к проблеме духовной социализации личности предполагает выявление таких стереотипов поведения и условий их формирования. Это – традиционные для нашего народа ценностные основания духовной социализации. И именно они, а не либеральные «ценности» Сорбонской инициативы (1998) или Болонского процесса (1999), должны быть положены в основу реформирования российской системы образования. Следует напомнить, что в основном духовность формируется именно в процессе образования и через воспитание, т. е. приобщение личности к духовным ценностям. А для яростных сторонников реформирования российского образования по Болонскому образцу приведем оценку А. Спуна, президента университета Лейпана в г. Люненбург (Германия), профессора в области менеджмента университетского образования: «Содержание и первые результаты Болонского процесса, в рамках которого университетское образование перешло на бакалавриат и магистратуру, должны быть рассмотрены крайне критично, так как они не соответствуют требованиям образования XXI века» [255, с.109].
Глава 1. Духовная основа социального взаимодействия
Как познать самого себя? Отнюдь не созерцанием, только действиями. Попробуй исполнять свой долг, и тот час же себя познаешь.
И. Гетте
Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел.
А. С. Пушкин
Важной задачей науки является выяснение и раскрытие субъектной природы (основы) духовной социализации человека. Духовная социализация – это не простое приобщение человека к уже имеющимся духовным ценностям, к сложившейся духовной культуре социума. Это солидарное созидание человеком таких форм общения и общественных отношений, а также таких их критериев и показателей, которые в совокупности обеспечивают максимальный простор для развертывания универсальной человеческой природы, продуктивно-творческих сил каждой человеческой личности и каждой социальной общности.
Имеющиеся на сегодняшний день основные философские концепции человека (натуралистическая, социологическая, идеалистическая, теологическая и т. п.) трактуют его сущность как нечто универсальное. Авторы этих концепций полагают, что личность обладает бесконечными возможностями саморазвития. Только основа такой возможности к бесконечному саморазвитию представлена в разных исследованиях по-разному. Л. Фейербах видел эту основу в «продуктивных силах природы, сфокусированных в человеке». Г. В. Ф. Гегель полагал, что в основе такой способности лежит дух, который не только «витает над историей, как над водами, но и действует в ней и составляет ее единственный двигатель». К. Маркс полагал, что способность человека к саморазвитию обусловлена общественными силами и отношениями. Тейяр де Шарден связывал такое развитие с некими «божественными энергиями»; во многом созвучными этой позиции были идеи В. В. Вернадского, К. Э. Циолковского, А. Л. Чижевского, Н. Г. Холодного, Н. Ф. Федорова, С. А. Подолинского и др.
По нашему мнению, возможность саморазвития человека как личности обусловлена не только многомерностью его бытия и единством разных его уровней, но и характером его духовной социализации. А последнее обстоятельство предполагает формирование в человеке субъектных свойств и способностей. Они необходимы для осуществления такой социализации, как в адаптивном, так и в креативном ее аспектах.
Для понимания сущности и характера духовной социализации необходимо иметь в виду именно единство разных уровней бытия человека; выпадание хотя бы одного из этих уровней из общей картины бытия сводит человеческое бытие к существованию, а человека превращает из субъекта социального творчества в его объект. При этом, как никогда ранее, актуальной является идея Платона о том, что принцип тождества бытия и мышления нельзя сводить к слиянию одного с другим, а необходимо рассматривать как нахождение высшего в низшем. Практически, речь идет об иерархии уровней бытия как характеристике его полноты. Рассматривая три вида человеческой реальности (объективную, субъективную и трансцендентную), В. И. Филатов пишет: «Подлинное бытие человека – это бытие его индивидуальности, которая преображает мир, в котором живет человек, по своей собственной мере творя тем самым действительное многообразие [175, с. 160]. Индивидуальность человека проявляется в его взаимосвязях с другими людьми, в его взаимоотношениях с ними. Можно сказать, что индивидуальность духовного имеет социальную оформленность. «Отношение к другому – это точка зрения сознания человека, захваченного вещественностью предмета. Отношение к самому себе – позиция субъекта, как знающей себя социальности» [44, с. 409]. Развивая вопрос о значении духовной (в его терминологии – внутренней, обращенной на самого себя) культуры для развития субъектных способностей личности, автор пишет: «В культуре внутреннее, духовное определяет достоинство внешнего, материального: духовный смысл направляет технику жизни, а нравственность – право» [44, с. 413].
Способность человека осмысливать, осознавать самого себя, осуществлять свою самоидентификацию, свое самоопределение и самоуправление и составляет существо субъектностных способностей личности, без которых духовная социализация не осуществляется. Самоидентификация есть процесс распознавания характеристик внешнего мира, в котором живет человек. В процессе такого распознавания индивид отвечает на вопросы: понятно – не понятно, ясно – неясно, но он не делает выбор в пользу тех или иных обстоятельств, той или иной окружающей его предметности. Самоопределение уже есть выбор, который индивид осуществляет в пользу тех или иных предметностей, тех или иных условий, обстоятельств и явлений. В процессе самоопределения индивид отвечает на вопросы: нужно – не нужно, полезно – бесполезно, целесообразно – нецелесообразно, родное – чужое. Отталкиваясь от понимания субъектности как формы человеческой социальности, характеризующей его со стороны его же способностей к самоопределению, самоорганизации, самоуправления, самореализации и нормотворчества, можно сделать предварительное заключение о том, что субъектность неразрывно связана с духотворением, «духовным деланием». Ведь ответы на вопросы и на вызовы представляют собой именно духовный акт, являются по существу процессом духовного становления и развития человека как социального существа.
Однако для конкретного понимания субъектности требуется конкретизация тех способностей, со стороны которых личность характеризуется как субъект. И здесь, прежде всего, необходимо конкретизировать понятия самоидентификация и самоопределение. Самоидентификация означает определение своего сложившегося положения, наличного места в природно-социальном мире. Мировоззренческое самоопределение личности означает поиск и выбор ею своего должного места в природно-социальном мире, смысла своей деятельности и своего существования. В современной философской литературе одни авторы считают такое осознание духовно-практическим, другие – теоретическим, третьи – деятельностно-практическим. Мировоззрение имеет трехкомпонентную структуру в силу того, что оно формируется, функционирует и развивается на основе духовно-практического, познавательно-теоретического и деятельностно-практического освоения действительности [89, с. 5].
Однако то обстоятельство, что само мировоззрение имеет определенную, трехкомпонентную структуру, не объясняет, каким именно образом все-таки осуществляется (происходит) самоопределение личности. Вместе с тем, данный вопрос является ключевым для понимания глубинной сути процесса самоопределения. Ведь мировоззрение имеет каждая личность, что, однако, никак не означает, что она, эта личность, aproiri — уже вполне самоопределилась.
По нашему мнению, самоопределение есть, во-первых, формирование мировоззренческих идеалов и способов следования им в деятельности человека; во-вторых, выработка определенных мировоззренческих принципов, на основании которых формируются сами мировоззренческие идеалы; в-третьих, возникновение у человека определенных мировоззренческих убеждений, которые определяют деятельностно-практический уровень мировоззрения. Такое духовно-нравственное самоопределение может быть формально индивидуальным, но по своей природе оно – процесс общественный, социальный. Ведь определяешься не только по отношению к идеалу, образу или норме, но и во взаимоотношениях с людьми по поводу этих идеалов, образов и норм. Тем самым в структуре самоопределения можно выделить два уровня: субъектно-объектный и субъектно-субъектный.
Очевидно, что мировоззрение, не завершенное самоопределением, может быть аморфным, незрелым, неструктурированным. Только самоопределение в отношении мировоззренческих идеалов, принципов и убеждения как основные координаты духовного мира человека делают мировоззрение цельным и зрелым. Только на базе таких идеалов, убеждений и принципов человек подлинно и действительно самоопределяется. Во всех других случаях он будет духовно слепым и неспособным (недееспособным) к самоопределению. Но духовная социализация предполагает и субъектно-субъектное самоопределение, в котором человек находит себе единомышленников, союзников, партнеров, друзей, учеников и учителей.
Идеалы как метафизическая предметность являются выражением духовно-практической зрелости человека и формируются посредством «духовного делания», «работы со смыслами», освоения и усвоения ценностей духовной культуры. Определяя жизненную программу человека, они сами, в свою очередь, определяются предельными основаниями человеческого бытия. Эти основания составляют то аксиологическое поле культуры, в котором происходит зарождение и созревание мировоззренческих идеалов человека. Следовательно, вне духовной культуры мировоззренческие идеалы формироваться не могут. Вне духовной культуры и на основе только лишь материальной культуры могут формироваться некие образцы и стереотипы, которые не обладают и не могут обладать характеристиками подлинного идеала. «Под идеалом понимается состояние, которое было бы абсолютно совершенным» [103, с. 189]. Рассматривая идеал, Дж. Э. Мур справедливо утверждал: «Очевидно, что прежде, чем ответить на вопрос: «Что является идеалом?», нужно ответить на вопрос: «Что является абсолютным добром или благом человека?» [103, с. 189]. Абсолютный характер как раз и является универсальным основанием для духовной социализации людей.
Мировоззренческий идеал, отражающий и выражающий способность личности к самоопределению, есть высшее совершенство, которое каждая здоровая и вменяемая личность воспринимает и осмысливает в качестве абсолютной ценности. Такие ценности человеком осмысливаются и воспринимаются как абсолютное благо. Это означает, что благо бесценно. Отказ от мировоззренческих идеалов означает для человека духовную, а порой и физическую смерть. Мировоззренческими идеалами становятся только те установки и нормы, которые обладают признаками совершенства, целостности, безусловности, абсолютности, вневременности и универсальности. Следовательно, формирование мировоззренческих идеалов или, что то же самое, мировоззренческое самоопределение человека, есть его восприятие и осмысление универсальности самого мира, его, человека, внутренний диалог с абсолютным и безусловным, вневременным и совершенным.
В связи с этим обратим внимание на определенный редукционизм в понимании сущности идеала в работах Дж. Э. Мура, который пишет: «Исследование внутренней ценности какого-либо предмета является сложным вследствие того, что ценность целого может быть иной, чем сумма ценностей составляющих его частей» [103, с. 27]. Рассматривая понятие идеал, английский философ, по сути, относится к нему как к обычному другому понятию, игнорируя тот факт, что идеал характеризуется свойством целостности, т. е. нерасчленяемости на части. Поэтому попытка рассматривать идеал как обычное благо (совокупность характеристик) или даже как абсолютное благо (сложный ансамбль признаков и свойств, но поддающийся такой умозрительной вивисекции) представляется совершенно неверным.
Если идеал есть «органичное единство» (Дж. Э. Мур) в ценности, то он уже, по определению, не «простой». Сводить понятие «идеал» к более простым понятиям (правило, норма, стандарт и т. д.) нельзя. З. Бауман и И. Лойфман, например, справедливо указывали, что идеал – это аскиологическая универсалия культуры, а правило – технологическая ее универсалия [16, 89]. Мировоззренческие идеалы выступают в форме чувственно-обобщенных образов, в которых сущее представляется как должное, воображаемое как действительное. Тем самым в чувственно-обобщенных образах результаты духовного опыта человека обретают те характеристики, которые превращают идеалы в практические нормы, образцы и установки. Для идеала характерны также такие атрибутивные характеристики, как предметность и оценочность. Благодаря им, идеал становится из отвлеченно-абстрактной формы актуализации субъектности личности ее конкретно-идеальной формой. В бытии (самоопределении) человек делает свой выбор, который является актом его духовной свободы и предполагает единство цели и средств.
Но этот духовный выбор человек как субъект осуществляет осознанно и свободно. Прерогатива свободного и духовно зрелого человека заключается в том, чтобы «ставить перед собой любые цели вообще» [73, с. 305]. Отталкиваясь от данной формулы И. Канта, мы неизбежно уходим от упрощенного представления о том, что «свобода – это осознанная необходимость» в сторону того, что свобода – это результат духовной социализации.
Если вести речь о духовной свободе, являющейся естественной основой для формирования мировоззренческих идеалов личности, то следует вспомнить следующее рассуждение В. С. Соловьева: «Признавая вообще существование нашего духа, мы должны признать, что он имеет первоначальное субстанциональное бытие не зависимо от своего частного обнаружения и проявления… он существует глубже всей той внутренней действительности, которая составляет нашу текущую, начальную жизнь» [150, с. 91]. Что же это за субстанция духа, которую отрицал Н. А. Бердяев, но постулировал В. С. Соловьев? Именно в мировоззренческих идеалах воплощается желаемый и должный образ самого человека и самой человеческой жизни. Идеал как некая субстанция духа становится практическим основанием для духовной социализации личности. Он «входит» в душу человека, приобретая в ней характер императивной целевой установки, некоей максимы – долга.
Будучи представлены как совершенная ценность, многие идеалы (например, идеалы истины, добра, красоты и т. д.) служат для человека средством не только оценки, но и преобразования (улучшения) действительности, определяют реальное его, человека, отношение к реальным процессам и явлениям. В этом и состоит смысл самоопределения: не только воспринять и осмыслить духовную и предметно-практическую реальность, но и выявить в ней объективно верное и предельно совершенное содержание, а затем определить и свое собственное отношение к этой реальности. Можно согласиться с мнением о том, что «свои ценностно-ориентационные функции идеалы реализуют в качества образца, цели и средства деятельности» [89, с. 6.]. Но интересна и мысль о том, что «идеал не становится лучше, когда он реализуется. Если Бог понимается как идеал, то ошибочно утверждать, что его совершенство включает его существование. Он нисколько не менее совершенен, будучи не существующим» [38, с. 48].
Но для человека идеал играет ключевую роль в его, человека, развитии. «Идеалы связывают ценности человека в единое целое, придавая им статус объективной устойчивости в рамках индивидуальной субъективности. Уникальность подлинных ценностей в том, что они при всей несовершенности человека являются выразителями его идеальных устремлений. Поэтому во всех жизненных ситуациях добро остается добром, а любовь – любовью. Это постоянство и определяет целостность человека и его развитие» [175, с. 241].
Благодаря таким идеалам само мировоззрение человека формируется и развивается не стихийно, а упорядоченно, не под влиянием внешних сил, а под воздействием определенной системы принципов. Эта система принципов защищает мировоззренческие идеалы от опрометчивой их верификации. Являясь познавательно-теоретическим выражением мировоззренческих идей, мировоззренческие принципы определяют концепцию жизни человека, понимание им окружающего мира и его устройства. Эти принципы служат построению мировоззренческих идеалов подобно тому, как цементный раствор служит возведению кирпичной кладки.
В отличие от эмпирического мировоззрения, развивающегося стихийно, мировоззрение, основанное на идеалах и принципах, развивается осмысленно и упорядоченно. Оно дает возможность человеку осмыслить конечные цели и направленность его жизнедеятельности, сформировать свою жизненную стратегию и стиль поведения, духовно сосредоточиться и практически сконцентрироваться на жизненно важном, отвлечься от суетного и второстепенного. Такое самоопределение имеет под собой не только духовно-практическую, но и теоретико-познавательную основу, поскольку оно неразрывно связано с выработкой личностного отношения человека к духовному и предметно-практическому опыту, накопленному людьми до его появления на свет.
Завершающим шагом на пути личностного самоопределения является выработка убеждений. Являясь деятельностно-практическим выражением мировоззренческих идеалов, мировоззренческие убеждения определяют жизненную позицию человека, выступают как установки и стереотипы поведения, действия. Они определяют операционально-деятельностный или деятельностно-практический уровень мировоззрения, в рамках которого человек становится практикующим субъектом социального творчества. «Субъектная готовность к действию есть специфическая особенность убеждения» [200, с. 28].
Однако субъектность социального творчества не исчерпывается способностью самого субъекта такого творчества к самоопределению. Важную роль в структуре субъектных свойств творческой личности играет ее способность к самореализации. В связи с этим уместно вспомнить определение творчества, данное в «Пире» Платона: «Творчество – понятие широкое. Все, что вызывает переход из небытия в бытие, – творчество, и, следовательно, создание любых произведений искусства и ремесла можно назвать творчеством, а всех создателей их – творцами» [122, с. 135]. Исходя из этого определения творчества, можно предположить, что самореализация личности творца представляет собой воплощение его замысла в предметно-практической форме.
В той мере, в который замысел субъекта социального творчества воплощается в предметно-практической форме (традиции, норме закона, правилах поведения и т. д.), в той же мере можно говорить о мере (степени) самореализации субъекта такого творчества. Неудовлетворенность, испытываемая многими творческими личностями по отношению к результату (продукту) своей деятельности, как раз и свидетельствует о частичной (неполной) самореализации.
Причинами такой неполной самореализации, по нашему мнению, являются правила, которым следует субъект творческой деятельности и которые не соответствуют его мировоззренческим принципам и идеалам. Известно, что культура начинается там же, где начинается правило (К. Леви-Строс). Если правила, устанавливаемые внешней инстанцией для субъекта творческой деятельности, не соответствуют высшим мировоззренческим идеалам человека, то они, эти правила, сковывают и ограничивают духовный потенциал личности. Но при этом следует помнить о том, что исторически субъектные качества оформлялись на надындивидуальном уровне (семья, род, община) в рамках общих институтов. А, следовательно, такое сковывание есть объективно существующий фактор творческой деятельности субъекта.
Кроме того, интересна мысль о том, что «образ не может быть идеей, но может играть роль знака или, точнее, сосуществовать с идеей в знаке» [88, с. 129]. Почему образ не может быть идеей, К. Леви-Строс пытался аргументировать тем, что «образ является неподвижным, однозначно связанным с сопровождающим его актом сознания», тогда как идеи – подвижные, изменчивые состояния сознания. Но это касается лишь мифологического мышления и сознания. Субъектность творчества в таком мышлении замещена его некоей нуминозностью (Ф. Гельдеринг, Р. Отто, К. Бюхнер), когда «природа противостоит нам как нечто великое, вызывающее страх, ужасное, возвышенное, величественное, или как нечто великолепное, приносящее удачу, восхитительное и воодушевляющее» [190, с. 17].
В отношении же к понятийному мышлению, освобожденному от мифологем, духовная практика предполагает самостоятельное отношение субъекта к объекту. Это означает, что субъектность изначально связана с определенной самостоятельностью того, кто мыслит, с его способностью верифицировать получаемое в качестве наследства определение. Без такого переосмысления невозможно обновление, адаптация, развитие, совершенствование. И здесь создание норм, правил, установок предполагает подвижность не только идей, но и образов, которые выражаются посредством таких идей.
Функция нормотворческой деятельности как разновидность социального творчества, например, принадлежала изначально определенным социальным институтам: советам старейшин, семейным советам, старостам и т. д. в отличие от художественного творчества, социальное творчество, связанное с выработкой определенных социальных технологий, норм и правил поведения, форм и способов социального взаимодействия, и сегодня имеет в определенном смысле, надындивидуальный характер: функция социального творчества в большей мере принадлежит сегодня государству, политическим партиям, общественным движениям, различным социальным институтам. Это свидетельствует о социальном отчуждении, в рамках которого сам человек не выступает в качестве субъекта социального творчества. Именно поэтому правила социального творчества задаются ему извне.
Отсюда следует вывод о том, что полная самореализация личности как субъекта социального творчества может быть обеспечена только в том случае, если сама личность действует как субъект социального творчества.
Понятийное мышление, развивающееся у субъекта социального творчества, – лишь первая из характеристик его продуктивно-творческих сил. Помимо такого мышления важную роль в развитии субъектности личности играет вторая сила – продуктивное воображение, моделирующее формы и образы в их бесконечном разнообразии и смысловом единстве. Третьей продуктивно-творческой силой человека является его духовное чувствование — т. е. окультуренное пониманием переживание значений в бесконечном их многообразии. Четвертая продуктивно-творческая сила – воля, способная переводить знания и ценности в реальные поступки и действия, придавать знаниям и ценностям практическое значение. Пятая продуктивно-творческая сила личности субъекта социального творчества – бескорыстное эстетическое созерцание, создающее необходимые условия для переживания меры и гармонии в их многообразии. Шестая сила – любящее сердце, направляющее мышление, волю и чувства на достойные предметы. Седьмая сила – вера, устремленная на надындивидуальные, абсолютные и совершенные ценности. И, наконец, восьмая продуктивно-творческая сила – совесть, оценивающая помыслы и деяния с позиций абсолютных, совершенных ценностей (значений). Этот перечень продуктивно-творческих сил личности субъекта творчества был составлен и обоснован И. А. Ильиным. Во многом схожей с этой версией является трактовка специфики православного миропонимания, данная В. Тростниковым [171, с. 175–268].
Существуют и иные, более конкретизированные классификации продуктивно-творческих сил личности (Г. С. Батищев, А. П. Ветошкин, С. З. Гончаров и др.). Но в каждой из них духовность («идеальное» бытие) полагается как основание формирования субъектности, а также отмечается, что именно дефицит духовности и, наоборот, изобилие пошлости и пустозвонства в современных социокультурных коммуникациях (в том числе и в средствах СМИ) обедняют человеческую природу, девальвируют человеческую сущность, благодаря которым созидаются высшие ценности (идеалы) человеческого бытия. И здесь необходимо помнить о том, что субъектность как комплекс личностных способностей и (возможностей) к социальному творчеству (например, в конкретном смысле нормотворчества) возникает в человеке (у человека) только тогда, когда сам субъект этой деятельности (личность) признает себя равноправным представителем конкретного социума (коллектива, группы, кооператива, товарищества, социального класса, общины, делового мира, предпринимательского сообщества и т. д.). И здесь именно самопризнание (но не самомнение, не самодовольствие и не гордыня!) является отражением и выражением субъектности социального творчества человека. Самопризнание уже есть начальная фаза самоидентификации и самоопределения личности.
Самопризнание раскрывается в актах удовлетворения, гордости (не гордыни!), успокоении (спокойствии), невозмутимости (от внешних сил). Когда человек осознает, что он прав, что его поступки соответствуют его идеалам, принципам и убеждениям, когда он понимает, что он поступил так, как хотел, как понимал, как ему диктовали его убеждения, он рассуждает совершенно иначе, чем человек без мировоззренческих идеалов, принципов и убеждений. Он рассуждает (и, что самое важное, ведет себя, действует) как субъект социального творчества. Никто и ничто не может остановить развитие его субъектности, если он встал на путь социального творчества и почувствовал и осознал себя субъектом этого процесса. Подобно тому, как никто сегодня не будет ни при каких обстоятельствах полагать землю центром вселенной или полагать, что солнце вращается именно вокруг земли, ни один человек, ставши однажды субъектом творчества, не будет путать его с репродуктированием, с ксерокопированием, с простым воспроизводством. Вместе с тем, самопризнание
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/a-i-matveeva/lichnost-i-obschestvo-problema-socialno-duhovnogo-vzaimodeyst/?lfrom=688855901) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
